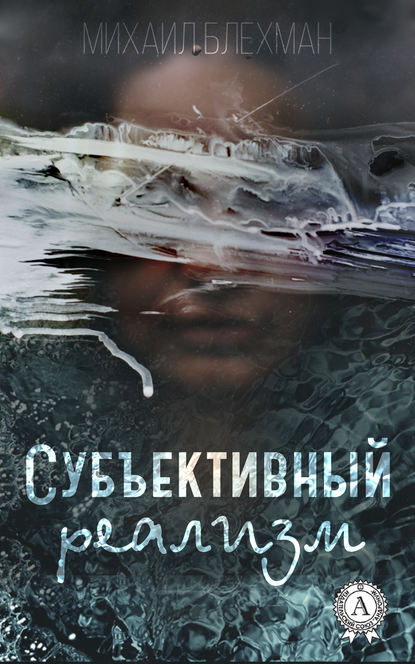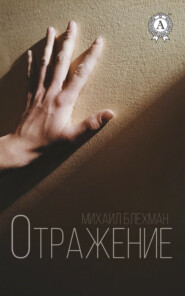По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Субъективный реализм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вопрос – не только мой, конечно, но и мой тоже – лился в автобусное окно вечной прохладной газированной струйкой утреннего света.
Наш просторный, тёплый автобус пытался казаться загруженным – пассажирами, обязанностями. Но я начинал понимать, что он одинок, и на станциях, и между ними, когда производит впечатление погруженного в свои мысли. Может быть, ему не давал покоя тот же вопрос, что и мне?
Что и нам.
Должно быть, особенно одиноко ему было без нас, когда не выпадал дневной рейс.
Да и с нами тоже, мы ведь были заняты собой, почти не обращая на него внимания.
Усатые автовокзальные часы устали забегать вперёд. Остановились, переводя дух. А наши, наручные, никак не приручаются, не становятся не просто наручными, а – ручными. Одна из стрелок суетливо тарахтит, стараясь услужить непонятно кому, две другие мудро молчат, но дело своё делают исправно. Исправные часы-наручники снизошли наконец-то, разрешили отправление. Мне удалось войти сюда дважды, в этот автобус, пахнущий окончанием декабря и, несмотря на дату, приоткрывший мне окошко.
Я открыл блокнот, перелистал страницы. Каждая была испещрена, забрызгана главным моим вопросом. Моим и нашим.
Что проку в блокноте, если в нём нет ответа? Блокнот нужен для того, чтобы записать и сохранить в нём – ответ. Как и зачем мне пришло в голову сохранять вопросы? Зачем или от кого я их сохраняю?
Она укуталась в шаль. Так, наверно, уставшая дорога могла бы укутаться в ночь, свернуться калачиком, задремать ненадолго.
Она была, как всегда, рядом: моё сидение – у окна, её – мне там, как она решила, было бы неудобно – в проходе.
Улыбнулась мне и сказала – отвечая или спрашивая:
– Вряд ли мне удастся ответить на такой простой вопрос. Точнее говоря – самый простой. У простых вопросов, тем более у простейшего из них, нет достойного ответа. Такого же простого, как вопрос.
Путешествовать в автобусе лучше утром, когда всё худшее – позади. Это же не поезд, это – автобус. В поезде, как мне стало понятно, уютнее всего ночью: тогда не заметишь ничего такого, от чего потом хочется отдохнуть в утреннем, дневном, далёком от вечерних забот автобусе.
Вот и солнце явилось, с пылу, с жару, с пышущей здоровьем пронзительно синей сковородки. Не успели усесться, как декабрь растаял в начале лета. Этого никто не мог предсказать, мы могли себе позволить только надеяться. Сбывшийся прогноз – не более чем наивная ошибка предсказателя. Это она мне объяснила.
– Пусть всё будет так, как хочется нам, – улыбнулась она. – Случайно и по-своему. И значит – по-нашему.
Водитель, кажется, услышал её, потому что улыбнулся нам в зеркальце, и снова сосредоточился на дороге.
Автобусное окно мелькнуло мимо яблоневой рощи. Автобус промелькнул мимо неё почти незаметно, и никто за окошком не прислушался к почти неслышному шелесту автобусных колёс.
На остановках люди толпились у автовокзальных касс, потом бежали к автобусу, торопясь, толкаясь, поднимая билеты, как военные штандарты. А в автобусе, хотя и не резиновом, мест было предостаточно.
– Единственное, чего стоит бояться, – сказала она, – впрочем, не бояться даже, а разумно опасаться, – это толпа. Ликующая, негодующая, строго молчащая, бодро выкрикивающая или строго покрикивающая – между ними нет существенных отличий. Ликующая ничуть не менее опасна, чем негодующая. Одна восторженно подбрасывает, другая назидательно роняет, – в результате всё равно окажешься на земле.
– Может, всё-таки поймают, – улыбнулся я.
– Подбрасывая, толпа мечтает только об одном: выронить. А если и захочет поймать – то лишь для того, чтобы напомнить, что без неё – ты бы упал. Но не нужно винить толпу, виноват только примкнувший к ней.
Укрывая мне колени пледом, она добавила:
– Толпа обезболивающе и облегчительно притягательна. Но глупостью в ней никто не страдает. Во всяком случае, там никто не страдает из-за её наличия. Толпа – вечна. По крайней мере, старше составляющих её.
– Почему же так? – спросил я сам у себя.
Какой простой вопрос – всего лишь одно незамысловатое слово. Всего-навсего – «почему?». Рискнёт ли кто-нибудь ответить? Хотя бы – попробовать дать ответ?
Автобус ненадолго почти утонул в казавшемся бесконечным туннеле. Но туннель, к счастью, закончился, и автобус поймал свет, как утопающий – воздух или соломинку.
Добравшись до перепутья, он, нетерпеливо поигрывая мускулами хорошо накачанных колёс, уступил дорогу ночному, запыхавшемуся товарному поезду.
Больше всего на свете захотелось возразить, даже блокнот сам собой закрылся.
– Спор, – заметила она, – бессмыслен так же, как попытка доказать свою правоту.
– Но ведь в споре, – всё же попробовал я возразить, – рождается истина.
– Как человек рожавший, расхохоталась она, – утверждаю: роды проходят иначе и дают принципиально другой результат. Она хохотала даже не глазами, а ресницами.
За автобусным окном улетало от нас поле, одно-единственное в своём роде, усеянное ягодами, словно лицо – веснушками. В ягоды превращались все цветочки, когда-то пообещавшие это и теперь выполняющие обещание. И все вместе – радостно переливались всеми цветами радуги через край, за горизонт. Разве что малиновые тихо позванивали.
Водитель хорошо знал своё дело. Автобус летел, свободно и легкомысленно, иногда останавливаясь и распахивая двери…
Словно увесистые оплеухи в неподставленную щёку, что-то развесистое, набухшее от вчерашнего дождя, стараясь, наверно, забрызгать блокнотные страницы, заколотило в автобусное окно, которое она мне заботливо прикрыла.
А ей – вдруг нужно было взять и уйти, оставив меня на сиденье у окошка, а мне – безнадёжно простой вопрос, на который, кажется, нет достойного ответа… Или есть, но она, так же заботливо, забрала его с собой, надеясь, что он перестанет досаждать мне, не будет больше пялиться на меня с каждой страницы блокнота?
Становилось поздно.
– Наверно, я могла бы ответить, но поздно уже… Поживёшь – увидишь. А пока – раскрой блокнот, так же, как открыл глаза. Открой его и прислушайся. Я знаю и буду знать: сейчас ты пытаешься услышать первую фразу. И последнюю: последняя тебе всегда даётся труднее остальных. Зато ведь даётся. Возможно – поэтому?
Я покачал головой, подчиняясь:
– Немного боязно. Снова открыл его, и снова – боюсь утонуть в словах… Утонуть будет стыдно. Мне – за себя, тебе – за меня…
Она вздохнула – наверно, так, как когда я никак не успокаивался. Или как потом, когда успокоиться – снова по моей, только сейчас понятой вине – не удавалось ей.
– Мне кажется… – она не сомневалась, но не хотела навязывать свою уверенность, – мне кажется, что в словах утонет только тот, у кого в них, в этих словах, нет спасительного слова. Между словом и словами не существует ничего общего, даже внешне…
Она подумала:
– Пора выходить, ещё нужно успеть на поезд… Но если ты боишься стыда, мне за тебя не стыдно, и стыдно не будет. Самый ужасный позор – тот, которого не осознаёшь: в нём невозможно раскаяться.
За автобусным окном яблоко смешно и беспечно упало недалеко от яблони.
– Знаешь, – сказал я. – Мне не удаётся раскаяться уже так давно…
Вокруг – по обе стороны автобусного окна – безнадёжно и безответно пахло июлем и кожаными автобусными сиденьями.
Ими почему-то больше не пахнет. Кто рискнёт ответить – почему?
– Такое уж покаяние, – шепнула она мне на ухо, вставая со своего сиденья в автобусном проходе.
Мне так хотелось это услышать… Обязательно – от неё. И чтобы прозвучало именно так – не успокаивающе, а твёрдо, даже настойчиво.
– Кто выходит? – спросил водитель.
Наш просторный, тёплый автобус пытался казаться загруженным – пассажирами, обязанностями. Но я начинал понимать, что он одинок, и на станциях, и между ними, когда производит впечатление погруженного в свои мысли. Может быть, ему не давал покоя тот же вопрос, что и мне?
Что и нам.
Должно быть, особенно одиноко ему было без нас, когда не выпадал дневной рейс.
Да и с нами тоже, мы ведь были заняты собой, почти не обращая на него внимания.
Усатые автовокзальные часы устали забегать вперёд. Остановились, переводя дух. А наши, наручные, никак не приручаются, не становятся не просто наручными, а – ручными. Одна из стрелок суетливо тарахтит, стараясь услужить непонятно кому, две другие мудро молчат, но дело своё делают исправно. Исправные часы-наручники снизошли наконец-то, разрешили отправление. Мне удалось войти сюда дважды, в этот автобус, пахнущий окончанием декабря и, несмотря на дату, приоткрывший мне окошко.
Я открыл блокнот, перелистал страницы. Каждая была испещрена, забрызгана главным моим вопросом. Моим и нашим.
Что проку в блокноте, если в нём нет ответа? Блокнот нужен для того, чтобы записать и сохранить в нём – ответ. Как и зачем мне пришло в голову сохранять вопросы? Зачем или от кого я их сохраняю?
Она укуталась в шаль. Так, наверно, уставшая дорога могла бы укутаться в ночь, свернуться калачиком, задремать ненадолго.
Она была, как всегда, рядом: моё сидение – у окна, её – мне там, как она решила, было бы неудобно – в проходе.
Улыбнулась мне и сказала – отвечая или спрашивая:
– Вряд ли мне удастся ответить на такой простой вопрос. Точнее говоря – самый простой. У простых вопросов, тем более у простейшего из них, нет достойного ответа. Такого же простого, как вопрос.
Путешествовать в автобусе лучше утром, когда всё худшее – позади. Это же не поезд, это – автобус. В поезде, как мне стало понятно, уютнее всего ночью: тогда не заметишь ничего такого, от чего потом хочется отдохнуть в утреннем, дневном, далёком от вечерних забот автобусе.
Вот и солнце явилось, с пылу, с жару, с пышущей здоровьем пронзительно синей сковородки. Не успели усесться, как декабрь растаял в начале лета. Этого никто не мог предсказать, мы могли себе позволить только надеяться. Сбывшийся прогноз – не более чем наивная ошибка предсказателя. Это она мне объяснила.
– Пусть всё будет так, как хочется нам, – улыбнулась она. – Случайно и по-своему. И значит – по-нашему.
Водитель, кажется, услышал её, потому что улыбнулся нам в зеркальце, и снова сосредоточился на дороге.
Автобусное окно мелькнуло мимо яблоневой рощи. Автобус промелькнул мимо неё почти незаметно, и никто за окошком не прислушался к почти неслышному шелесту автобусных колёс.
На остановках люди толпились у автовокзальных касс, потом бежали к автобусу, торопясь, толкаясь, поднимая билеты, как военные штандарты. А в автобусе, хотя и не резиновом, мест было предостаточно.
– Единственное, чего стоит бояться, – сказала она, – впрочем, не бояться даже, а разумно опасаться, – это толпа. Ликующая, негодующая, строго молчащая, бодро выкрикивающая или строго покрикивающая – между ними нет существенных отличий. Ликующая ничуть не менее опасна, чем негодующая. Одна восторженно подбрасывает, другая назидательно роняет, – в результате всё равно окажешься на земле.
– Может, всё-таки поймают, – улыбнулся я.
– Подбрасывая, толпа мечтает только об одном: выронить. А если и захочет поймать – то лишь для того, чтобы напомнить, что без неё – ты бы упал. Но не нужно винить толпу, виноват только примкнувший к ней.
Укрывая мне колени пледом, она добавила:
– Толпа обезболивающе и облегчительно притягательна. Но глупостью в ней никто не страдает. Во всяком случае, там никто не страдает из-за её наличия. Толпа – вечна. По крайней мере, старше составляющих её.
– Почему же так? – спросил я сам у себя.
Какой простой вопрос – всего лишь одно незамысловатое слово. Всего-навсего – «почему?». Рискнёт ли кто-нибудь ответить? Хотя бы – попробовать дать ответ?
Автобус ненадолго почти утонул в казавшемся бесконечным туннеле. Но туннель, к счастью, закончился, и автобус поймал свет, как утопающий – воздух или соломинку.
Добравшись до перепутья, он, нетерпеливо поигрывая мускулами хорошо накачанных колёс, уступил дорогу ночному, запыхавшемуся товарному поезду.
Больше всего на свете захотелось возразить, даже блокнот сам собой закрылся.
– Спор, – заметила она, – бессмыслен так же, как попытка доказать свою правоту.
– Но ведь в споре, – всё же попробовал я возразить, – рождается истина.
– Как человек рожавший, расхохоталась она, – утверждаю: роды проходят иначе и дают принципиально другой результат. Она хохотала даже не глазами, а ресницами.
За автобусным окном улетало от нас поле, одно-единственное в своём роде, усеянное ягодами, словно лицо – веснушками. В ягоды превращались все цветочки, когда-то пообещавшие это и теперь выполняющие обещание. И все вместе – радостно переливались всеми цветами радуги через край, за горизонт. Разве что малиновые тихо позванивали.
Водитель хорошо знал своё дело. Автобус летел, свободно и легкомысленно, иногда останавливаясь и распахивая двери…
Словно увесистые оплеухи в неподставленную щёку, что-то развесистое, набухшее от вчерашнего дождя, стараясь, наверно, забрызгать блокнотные страницы, заколотило в автобусное окно, которое она мне заботливо прикрыла.
А ей – вдруг нужно было взять и уйти, оставив меня на сиденье у окошка, а мне – безнадёжно простой вопрос, на который, кажется, нет достойного ответа… Или есть, но она, так же заботливо, забрала его с собой, надеясь, что он перестанет досаждать мне, не будет больше пялиться на меня с каждой страницы блокнота?
Становилось поздно.
– Наверно, я могла бы ответить, но поздно уже… Поживёшь – увидишь. А пока – раскрой блокнот, так же, как открыл глаза. Открой его и прислушайся. Я знаю и буду знать: сейчас ты пытаешься услышать первую фразу. И последнюю: последняя тебе всегда даётся труднее остальных. Зато ведь даётся. Возможно – поэтому?
Я покачал головой, подчиняясь:
– Немного боязно. Снова открыл его, и снова – боюсь утонуть в словах… Утонуть будет стыдно. Мне – за себя, тебе – за меня…
Она вздохнула – наверно, так, как когда я никак не успокаивался. Или как потом, когда успокоиться – снова по моей, только сейчас понятой вине – не удавалось ей.
– Мне кажется… – она не сомневалась, но не хотела навязывать свою уверенность, – мне кажется, что в словах утонет только тот, у кого в них, в этих словах, нет спасительного слова. Между словом и словами не существует ничего общего, даже внешне…
Она подумала:
– Пора выходить, ещё нужно успеть на поезд… Но если ты боишься стыда, мне за тебя не стыдно, и стыдно не будет. Самый ужасный позор – тот, которого не осознаёшь: в нём невозможно раскаяться.
За автобусным окном яблоко смешно и беспечно упало недалеко от яблони.
– Знаешь, – сказал я. – Мне не удаётся раскаяться уже так давно…
Вокруг – по обе стороны автобусного окна – безнадёжно и безответно пахло июлем и кожаными автобусными сиденьями.
Ими почему-то больше не пахнет. Кто рискнёт ответить – почему?
– Такое уж покаяние, – шепнула она мне на ухо, вставая со своего сиденья в автобусном проходе.
Мне так хотелось это услышать… Обязательно – от неё. И чтобы прозвучало именно так – не успокаивающе, а твёрдо, даже настойчиво.
– Кто выходит? – спросил водитель.