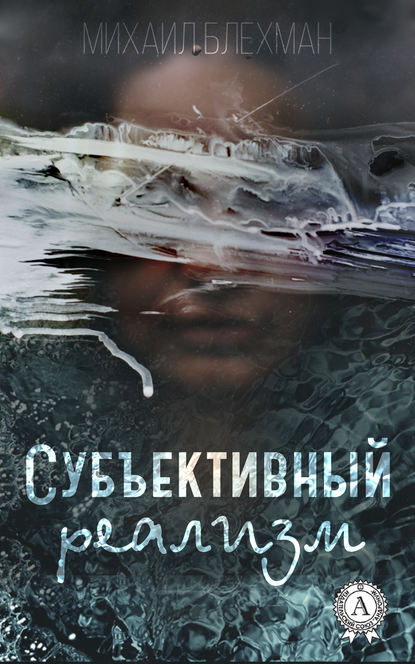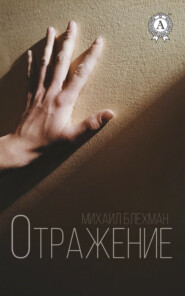По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Субъективный реализм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я – вижу их.
Я вижу – их.
И ширму, из-за которой поцарапанная монета выкатывается созревшим мандарином и куда закатывается этот перезревший фрукт, чтобы превратиться в неразменную монету, которой суждено безучастно и размеренно постукивать о пинг-понговый стол.
Да нет же, нет! Вот, оказывается, на что они разменяны: за две серебристые пятнашки мне достанется счастливый трамвайный билет, и мне не понадобится несуществующий стоп-кран: я успею на подножку, и к ней, рядом с ней – успею, ну разве что запыхаюсь немного, и она улыбнётся мне.
Мы – улыбнёмся друг другу.
– Вам идёт, – скажет она мне. И трамвай согласно звякнет в ответ.
Нет, лучше она скажет:
– Слушай, а тебе идёт! – И трамвай снова звякнет, веселее и громче.
Она сказала – слушай. Я буду слушать, не сомневайся во мне.
Она научит меня отличать счастливый билет от всех остальных.
– Смотри, – говорит она. – У тебя сумма первых трёх цифр равна сумме вторых. Разве он не стоит гораздо больше двух поцарапанных пятнашек? Ты едешь по счастливому билету, да ещё и в трамвае, на который успела, хотя он давным-давно ушёл, пока ты что-то высматривала на самом далёком пляже.
Она сказала – смотри. Я буду смотреть, не сомневайся во мне.
Значит, не так уж мы далеки друг от друга – при нашей-то близости:
– Вот эту самую ракушку. Ведь правда идёт?
Она улыбнётся мне и промолчит, вслух.
Из трамвайного окна всё – как я хочу.
Как хочу – я. И она, со мною вместе.
Серый цвет отливает мандариновым, безвозвратно растворяющим бывшую маятниковую серость. И вот уже не мандаринового даже, а красного так много повсюду, что и дождю не пролиться – просто неоткуда и некуда, а если прольётся, то застучит повеселевшими пинг-понговыми шариками по новёхоньким крышам и старой брусчатке, и это не будет игрой, а значит и поражением эта маятниковая гроза грозить мне не станет.
И плечи будут счастливо подняты, и юбка будет раздуваться парусом, словно яхта отплывает от того берега, на котором мне нашлась заменившая соломинку спасительная ракушка. И ни за что на свете не хочется выходить из позвякивающего, как ложечка в стакане, трамвая, чтобы он снова не уехал без меня, увозя затоптанный чьей-то парусиновой или лакированной туфлей билет, а вместо него снова не принялся бы за свою игру со мною старый, недобрый маятник.
Но вот снова она или не она, – не замечает меня из-под широких, покрывшихся майскими цветами полей шляпы, вовсе переставшей походить на потерявшуюся на дальнем пляже ракушку. Но ведь хотела – хочет – заметить, верно? И думалось – думается – ей сейчас только обо мне… Впрочем, не обо мне, конечно, – мы ведь чересчур далеки друг от друга, при всей нашей близости…
Почему же она – неужели она? – не пускает меня туда, к себе? Почему играет со мной в прятки, почему требует от меня того, с чем мне ведь не справиться: перейти, перебежать к ней майское поле, ещё более бесконечное, чем моё желание во что бы то ни стало перейти его, перебежать…
Да и если бы я ехала вместе с нею в этом проезжающем мимо меня экипаже, чем, какой монетой расплатилась бы с возницей? Потускневшей от ненужности, когда-то золотистой двушкой да отжившей свой век серебристой пятнашкой? По ним и дозвониться-то некуда и неоткуда, не то что расплатиться… Или – билетом из шести не ставших счастливыми цифр?
Разве что единственной монетой, с тем самым непременным, неизменным серебряным номиналом. Или чуть больше…
И совсем даже не по ошибке.
Окошко экипажа не зашторено, но она не видела меня, не видит из-за широких полей майской шляпы. А я возьму и соскочу с трамвайной подножки, забыв о стучащем в висках маятнике, и попрошу нас обеих, чтобы она заметила меня так же, как я – её, и чтобы ей думалось обо мне… Впрочем, не обо мне, конечно, и мне не о ней, – мы ведь чересчур далеки друг от друга, при всей нашей близости…
Но мы поедем вместе, и наш – наш! – экипаж будет слегка подпрыгивать на ещё новой брусчатке.
Плечи её изящно опущены, а не всё ещё угловато вздёрнуты, как у меня. И цвета вокруг – чёрно-белые, даже майские полевые цветы вовсе не раскрашены, но от этого ничуть не становится темнее, свет не зависит от цвета, он, оказывается, сам по себе?
– Что может быть интереснее, чем сформулировать вопрос? – пожму я вздёрнутыми по надоевшей моде плечами.
В ответ она приподнимет и опустит свои – как полагается, в меру обнажённые:
– Что может быть скучнее, чем попытаться ответить на вопрос, хотя бы и заданный? Тем более, если попытка не окажется тщетной.
– Собственно говоря, – счастливо соглашусь я с нею, – любой ответ – это и есть тщетная попытка удержаться на уровне вопроса.
Она обрадовалась – обрадуется – тому, что наконец-то мы друг друга рассмотрели и расслышали: не так уж мы, оказывается, далеки друг от друга – при нашей-то близости:
– Да и чем интересен вопрос, у которого есть ответ? Вы согласны?
Нет:
– Ты согласна?
Да нет же: у нас с нею, разумеется, будет одно на двоих спасительное личное местоимение. Нам хватит его – личного местоимения всегда хватает, на то оно и личное. Согласна?
Она надела шляпу с майскими полями, ни одно из которых мне не дано перейти, но они не закроют от меня её лица, да она и не хочет, чтобы закрыли, как бы ни старался вечный престарелый маятник.
А знает ли он, что достучится и до неё, и ей придёт черёд смотреть на меня. И ей понадобится сюда, ко мне, и она сможет, сумеет меня увидеть.
Замечу ли я её? Хватит ли нам местоимений?
Впрочем, зачем мне местоимение, если есть имя – её, моё.
День засветится, и ничего не удастся разобрать: ни пляж, ни окошки экипажа и трамвая, ни вздёрнутые и опущенные плечи. День засветится и покажется ширмой, за которую, наверно, закатился раскрасневшийся мандарин, чтобы, возможно, когда-нибудь обернуться потёртой серебряной монетой – номиналом в один век. Или чуть больше.
Конечно, достучался – куда ему спешить.
И день засветился, и свет снова существеннее любого цвета. А вот и мандарин выкатился из-за ширмы – и теперь мы наверняка увидим друг друга, хотя на мне снова шляпа с майскими полями, или та, в очередной раз старинной ракушкой найденная на самом дальнем пляже.
И я снова еду от неё, но к ней: в трамвае ли, в экипаже… Нам есть чем расплатиться.
Что же ей мешает увидеть меня? Мне нужно к ней, через паутину коротких и длинных гудков, по всем на свете брусчаткам, и пусть сколько угодно снашиваются парусиновые и лаковые туфли. Я не наступлю на билет с тремя золотистыми двушками цифр, я подниму похожую на заветную пятнашку обронённую нами серебряную монету достоинством больше века.
И личное местоимение нам с нею вовсе не понадобится, ведь у нас есть имя, которое не требует замены и не терпит изменения.
Когда заноза принимается саднить особенно сильно и пинг-понговое поражение выглядит неизбежным, мне помогает только это. Пока, во всяком случае, помогало?…
Спросила у неё, и она улыбнулась мне из своего окошка, чтобы мы снова встретились.
Балл
Посвящается начинавшей певице Эрне Юзбашьян
Я вижу – их.
И ширму, из-за которой поцарапанная монета выкатывается созревшим мандарином и куда закатывается этот перезревший фрукт, чтобы превратиться в неразменную монету, которой суждено безучастно и размеренно постукивать о пинг-понговый стол.
Да нет же, нет! Вот, оказывается, на что они разменяны: за две серебристые пятнашки мне достанется счастливый трамвайный билет, и мне не понадобится несуществующий стоп-кран: я успею на подножку, и к ней, рядом с ней – успею, ну разве что запыхаюсь немного, и она улыбнётся мне.
Мы – улыбнёмся друг другу.
– Вам идёт, – скажет она мне. И трамвай согласно звякнет в ответ.
Нет, лучше она скажет:
– Слушай, а тебе идёт! – И трамвай снова звякнет, веселее и громче.
Она сказала – слушай. Я буду слушать, не сомневайся во мне.
Она научит меня отличать счастливый билет от всех остальных.
– Смотри, – говорит она. – У тебя сумма первых трёх цифр равна сумме вторых. Разве он не стоит гораздо больше двух поцарапанных пятнашек? Ты едешь по счастливому билету, да ещё и в трамвае, на который успела, хотя он давным-давно ушёл, пока ты что-то высматривала на самом далёком пляже.
Она сказала – смотри. Я буду смотреть, не сомневайся во мне.
Значит, не так уж мы далеки друг от друга – при нашей-то близости:
– Вот эту самую ракушку. Ведь правда идёт?
Она улыбнётся мне и промолчит, вслух.
Из трамвайного окна всё – как я хочу.
Как хочу – я. И она, со мною вместе.
Серый цвет отливает мандариновым, безвозвратно растворяющим бывшую маятниковую серость. И вот уже не мандаринового даже, а красного так много повсюду, что и дождю не пролиться – просто неоткуда и некуда, а если прольётся, то застучит повеселевшими пинг-понговыми шариками по новёхоньким крышам и старой брусчатке, и это не будет игрой, а значит и поражением эта маятниковая гроза грозить мне не станет.
И плечи будут счастливо подняты, и юбка будет раздуваться парусом, словно яхта отплывает от того берега, на котором мне нашлась заменившая соломинку спасительная ракушка. И ни за что на свете не хочется выходить из позвякивающего, как ложечка в стакане, трамвая, чтобы он снова не уехал без меня, увозя затоптанный чьей-то парусиновой или лакированной туфлей билет, а вместо него снова не принялся бы за свою игру со мною старый, недобрый маятник.
Но вот снова она или не она, – не замечает меня из-под широких, покрывшихся майскими цветами полей шляпы, вовсе переставшей походить на потерявшуюся на дальнем пляже ракушку. Но ведь хотела – хочет – заметить, верно? И думалось – думается – ей сейчас только обо мне… Впрочем, не обо мне, конечно, – мы ведь чересчур далеки друг от друга, при всей нашей близости…
Почему же она – неужели она? – не пускает меня туда, к себе? Почему играет со мной в прятки, почему требует от меня того, с чем мне ведь не справиться: перейти, перебежать к ней майское поле, ещё более бесконечное, чем моё желание во что бы то ни стало перейти его, перебежать…
Да и если бы я ехала вместе с нею в этом проезжающем мимо меня экипаже, чем, какой монетой расплатилась бы с возницей? Потускневшей от ненужности, когда-то золотистой двушкой да отжившей свой век серебристой пятнашкой? По ним и дозвониться-то некуда и неоткуда, не то что расплатиться… Или – билетом из шести не ставших счастливыми цифр?
Разве что единственной монетой, с тем самым непременным, неизменным серебряным номиналом. Или чуть больше…
И совсем даже не по ошибке.
Окошко экипажа не зашторено, но она не видела меня, не видит из-за широких полей майской шляпы. А я возьму и соскочу с трамвайной подножки, забыв о стучащем в висках маятнике, и попрошу нас обеих, чтобы она заметила меня так же, как я – её, и чтобы ей думалось обо мне… Впрочем, не обо мне, конечно, и мне не о ней, – мы ведь чересчур далеки друг от друга, при всей нашей близости…
Но мы поедем вместе, и наш – наш! – экипаж будет слегка подпрыгивать на ещё новой брусчатке.
Плечи её изящно опущены, а не всё ещё угловато вздёрнуты, как у меня. И цвета вокруг – чёрно-белые, даже майские полевые цветы вовсе не раскрашены, но от этого ничуть не становится темнее, свет не зависит от цвета, он, оказывается, сам по себе?
– Что может быть интереснее, чем сформулировать вопрос? – пожму я вздёрнутыми по надоевшей моде плечами.
В ответ она приподнимет и опустит свои – как полагается, в меру обнажённые:
– Что может быть скучнее, чем попытаться ответить на вопрос, хотя бы и заданный? Тем более, если попытка не окажется тщетной.
– Собственно говоря, – счастливо соглашусь я с нею, – любой ответ – это и есть тщетная попытка удержаться на уровне вопроса.
Она обрадовалась – обрадуется – тому, что наконец-то мы друг друга рассмотрели и расслышали: не так уж мы, оказывается, далеки друг от друга – при нашей-то близости:
– Да и чем интересен вопрос, у которого есть ответ? Вы согласны?
Нет:
– Ты согласна?
Да нет же: у нас с нею, разумеется, будет одно на двоих спасительное личное местоимение. Нам хватит его – личного местоимения всегда хватает, на то оно и личное. Согласна?
Она надела шляпу с майскими полями, ни одно из которых мне не дано перейти, но они не закроют от меня её лица, да она и не хочет, чтобы закрыли, как бы ни старался вечный престарелый маятник.
А знает ли он, что достучится и до неё, и ей придёт черёд смотреть на меня. И ей понадобится сюда, ко мне, и она сможет, сумеет меня увидеть.
Замечу ли я её? Хватит ли нам местоимений?
Впрочем, зачем мне местоимение, если есть имя – её, моё.
День засветится, и ничего не удастся разобрать: ни пляж, ни окошки экипажа и трамвая, ни вздёрнутые и опущенные плечи. День засветится и покажется ширмой, за которую, наверно, закатился раскрасневшийся мандарин, чтобы, возможно, когда-нибудь обернуться потёртой серебряной монетой – номиналом в один век. Или чуть больше.
Конечно, достучался – куда ему спешить.
И день засветился, и свет снова существеннее любого цвета. А вот и мандарин выкатился из-за ширмы – и теперь мы наверняка увидим друг друга, хотя на мне снова шляпа с майскими полями, или та, в очередной раз старинной ракушкой найденная на самом дальнем пляже.
И я снова еду от неё, но к ней: в трамвае ли, в экипаже… Нам есть чем расплатиться.
Что же ей мешает увидеть меня? Мне нужно к ней, через паутину коротких и длинных гудков, по всем на свете брусчаткам, и пусть сколько угодно снашиваются парусиновые и лаковые туфли. Я не наступлю на билет с тремя золотистыми двушками цифр, я подниму похожую на заветную пятнашку обронённую нами серебряную монету достоинством больше века.
И личное местоимение нам с нею вовсе не понадобится, ведь у нас есть имя, которое не требует замены и не терпит изменения.
Когда заноза принимается саднить особенно сильно и пинг-понговое поражение выглядит неизбежным, мне помогает только это. Пока, во всяком случае, помогало?…
Спросила у неё, и она улыбнулась мне из своего окошка, чтобы мы снова встретились.
Балл
Посвящается начинавшей певице Эрне Юзбашьян