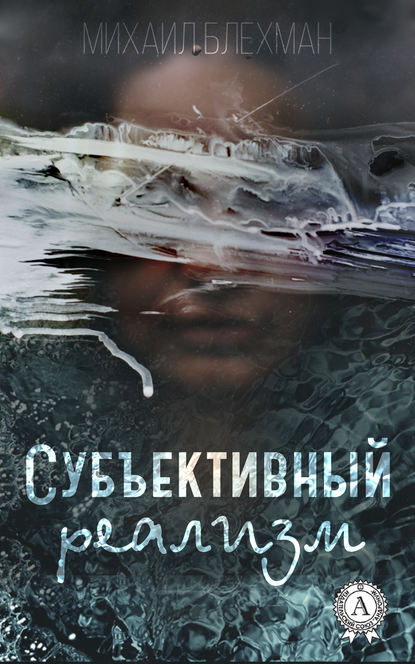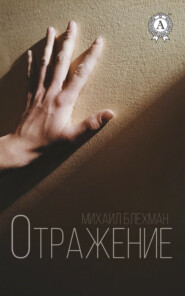По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Субъективный реализм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Танцуют все! – объявил распорядитель вечера.
Сводный оркестр грянул жизнеутверждающий танцевальный туш, и гости парами пустились в бальный пляс. В него же пустился было и Родион Акакиевич, однако пары ему не нашлось, что невыгодно выделяло его на фоне танцующих. При этом что-то исподволь мешало танцевать, но вот что именно – он понять не мог, да и не с руки было заниматься самоанализом в сонме танцующих.
Иван Никифорович и Иван Иванович степенно совершали па и антраша – сначала вместе с дамами в кокошниках, а затем с прочими дамами, передавая друг другу партнёрш – со снопиками, в байковых халатах и кринолиновых сарафанах. Мило и торжественно пахло вялеными желудями.
– Не мешает ли вам перо, милейший Родион Акакиевич? – строго спросил Иван Никифорович, суровыми глазами глядя в окно. – Мне кажется, оно мешает вам двигаться в нужном направлении.
Иван Иванович добавил:
– По-моему, оно сковывает не только ваши движения, но и мысли и не позволяет принять единственно правильное решение. – И посмотрел туда же и так же.
«Как они ухитрились заметить перо? – мысленно удивился Родион Акакиевич. – Оно ведь у меня во внутреннем кармане!.. Неужели настолько заметно?…» А вслух, стараясь быть и выглядеть восторженным, воскликнул, неожиданно для самого себя:
– Я счастлив ненавидеть вас! – и трижды обежал вокруг временно пустующих почётных мест.
Иван Никифорович обвёл взглядом односельчан и заметил, возвращаясь на насиженное почётное место:
– У одних торчат уши…
Иван Иванович возвратился туда же и добавил:
– У других – перья.
Раздалась овация.
Между тем лучины догорели, и вечер закончился…
Выйдя на улицу, Родион Акакиевич осмотрелся, прислушался и улыбнулся. Детскими петушиными свистелками заливались невидимые сверчки. На чёрной скатерти как будто разлили, а разливая, вдобавок ещё и разбрызгали молоко из большущего кувшина, и в этом не было беспорядка, наоборот – казалось, что иначе быть не может или, по крайней мере, не должно. Флюгерные петухи делали своё дело, а остальные – давно сдлелав, спали в сараях рядом с боевыми подругами. Столбы молчаливо торчали, ожидая, когда придёт утро долгожданного цвета и они снова станут мачтами. Не смыкающие глаз львы с брезгливой суровостью смотрели туда, куда, кроме них, не дерзал смотреть почти никто.
Постояв перед своими воротами, Родион Акакиевич задумался и убедился в том, что запах на улице действительно не такой, как во дворе. Во дворе он был вполне понятным и складывался из конфетного абрикосового, терпкого с кислинкой крыжовникового, свежехрустящего анисового, сладко-кислого вишнёвого… А здесь, на улице, пахло непостижимо – ночным селом, и запах этот никому и никогда ещё не удавалось описать словами. Во всех книгах его только называли, но никто не смог и даже не осмелился описать его, чтобы аромат исходил от сраниц. Родион Акакиевич вздохнул воздух, беззаботно улыбнулся и решил, что войдёт сейчас в свой новый дом и заветным гусиным пером опишет – ему это сейчас – и только сейчас – наверняка удастся – бывший неописуемым, но ставший понятным запах – запах ночного села. И кто бы ни читал то, что он сейчас напишет, поймёт, как пахнет ночное село, и захочет приехать и убедиться, а приехав, почувствует себя дома – ведь только дома приехавшего встречает знакомый запах.
Родион Акакиевич поспешил в дом, не замечая, что двор его по-прежнему сохраняет три отличия от остальных сельских дворов. Впрочем, Родиона Акакиевича это уже не беспокоило – ночной запах был важнее, и непочатая рукопись заждалась на заветном письменном столе.
Иван Никифорович и Иван Иванович сидели у открытого окна, выходящего во двор. Из соседнего сада доносился анисовый запах. В натруженных, мозолистых руках они держали глиняные кружки с витыми ручками в виде задумавшихся львов и потягивали из кружек анисовую. Петухи ещё спали бок о бок со своими верными подругами, и только лишённый подруги флюгерный петух исправно трудился на башне, поскрипывая под креповым бризом. Флаг на мачте был временно опущен. А за забором виднелись дом без флюгера, ступеньки без львов и двор без мачты, и все четыре отличия были очевидны для острых взоров и чутких ушей.
– Я счастлив в своей ненависти к вам, – тонко улыбнулся Иван Никифорович, отводя взор от окна, закусывая желудком и вопросительно глядя на Ивана Ивановича.
Тот сделал необходимую паузу, отпил анисовой, положил в рот маринованную крыжовинку, посмотрел туда, куда только что глядел Иван Никифорович, улыбнулся не менее тонко и ответил утвердительно:
– Моя ненависть к вам – главная опора и суть моей жизни. Впрочем, далеко не только моей!..
Они отставили кружки, отхлебнули ржаного квасу из гранёных рюмок и закусили кусочками засушенных солёных вишенок.
– Как мы с вами теперь видим, – проговорил Иван Никифорович, – полумеры оказываются неэффективными. Имеет ли смысл продолжать смешить кур? – С этими словами он посмотрел в окно и негрустно вздохнул.
– Равно как и дразнить гусей, – продолжил его мысль Иван Иванович. – Более того, полумеры вредны. Создавая ненужную иллюзию, они уводят нас от наиболее эффективного решения проблемы.
– Я бы сказал – безальтернативного решения, – подвёл мысль к логической развязке Иван Никифорович.
Они согласно кивнули, тряхнув гривами густых поседевших волос, покончили с гусиной печёнкой, сдвинули рюмки и закрыли окно.
Рассвет ещё только собирался начать брезжить.
Куры тревожно закудахтали, раньше времени будя своих не ко времени расслабившихся сожителей. Свинья чуть было не поперхнулась припасённым и положенным накануне за щёку жёлудем. Коровы испуганно мукнули и затаили дыхание, надеясь, что, может быть, энергичный покровитель сможет успокоить их, но тот испугался за всех разом и лишился уверенности.
По-своему прекрасный красный петух, пущенный по мановению мозолистых рук, без лишних эмоций делал своё, а точнее сказать, общее дело, убирая в небытие всё, что ещё недавно мозолило глаза и вынуждало руки совершать вынужденные мановения…
Прошло совсем немного времени, все проснувшиеся успокоились и легли досыпать, а непроснувшиеся спали как ни в чём не бывало.
И ни красного петуха, и ни одного из четырёх отличий уже не осталось – как будто никогда и не существовало… Куда ни брось взгляд, везде тянулись бесконечные деревенские просторы. Но не было нигде брошенных взглядов, потому что рань стояла ещё более бесконечная и бескрайняя, начавшись внезапно, как она всегда начинается летом. Вот только не мечталось, чтобы она не заканчивалась никогда, – потому что в такую рань никто ни о чём не мечтал, и никто ничего не загадывал.
Чёт, нечет
Кто стать звенящими поможет
Ещё не сказанным словам?
Анна Ахматова. «Чётки»
Осторожно вытягиваю из речного рукава не мною – когда-то – в него положенные – чёт – нечет, нечет – чёт.
Стараюсь не пропустить сквозь пальцы падающие мне в руки, положенные мне зёрна-бусины.
Нанизываю.
Перебираю, чтобы убедиться в прочности, и снова нанизываю, и снова, бесконечно, перебираю. В любимый мой бисер играю – но всерьёз.
Впрочем, и не играю вовсе. Раз и навсегда – навсегда… – взялся нанизывать падающие ко мне бусины на суровую, как чужой взгляд, нитку, а игру оставил – проходящим мимо. Пусть перебирают, если хотят сыграть.
– Нитка чересчур сурова, – бросил прохожий.
Свитая, брошенная нитка, с подобранными мною для него, прохожего, бусинами, шлёпнулась обратно в отороченный ёлочным мехом речной рукав, и я достал её поскорее, и развил, потому что – взялся же нанизывать, и больше некому, кроме меня, да и, говорят, незачем. И если не я, то что будет с моим необходимым мне нечетом? С моим любимым чётом? И с ниткой моей – что будет?
Проплываю мимо взбалмошного облака, похожего на шевелюру старого, нестареющего мыслителя. Опасаюсь, что вдруг – они умеют это – мои бисеринки перестанут быть непохожими одна на другую. Что гласные лишатся дара и права голоса. Что согласные – останутся без своих гласных. И нитка, потеряв суровость и смысл, не вечно же ей виться – совьётся, спутается для меня, а для кого-то – просто разорвётся.
Но пока они – каждая – незаменимы и, дополняя друг друга, этим неповторимы. Я отбираю их, как в детстве перебирал высыпанную на стол гречневую крупу.
И если одна какая-то крупинка, единственная бусина, случайная бисеринка – хотя бы слегка, даже невзначай напомнит мне другую, приходится – не выбрасывать же – осторожно, только на себя и сердясь, промывать её в речной, не имеющей ненужного, отвлекающего имени воде, во взъерошенном облаке, мимо которого плывётся тихо, без малейшего всплеска, только разноцветные бусинки перемигиваются, переплёскиваются, перешёптываются:
«Чёт и нечет… Нечет – чёт…»
И тогда отмытую, пахнущую моим ключевым, проточным облаком, потерявшую похожесть и случайность, добавлять к ненадолго оставленным остальным: ждущим её, невозможным без неё, схожим только тем, что одна с другой ничем иным не похожи.
– Если смотреть сквозь эту бусину, то ещё зелёное становится уже жёлтым, а уже жёлтое – индевеет, – недовольно заметила прохожая.
«Значит, всё-таки заметно», – не ответил я.
Но густые прибрежные ёлки, если поднести к ним подходящую бисеринку – чёт-нечет, нечет-чёт, – станут похожими и на императорские шляпы, и на старые, и не нам и не нами написанные письма без марок, и на детские песочные пирамидки – пожелтевшие, как и полагается всему зелёному.