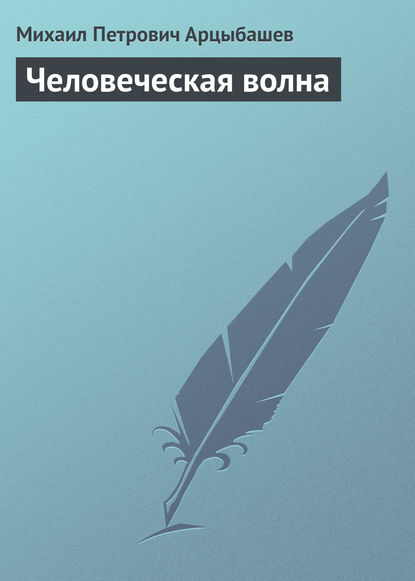По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Человеческая волна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зиночка отвела его в самый конец сада, где деревья уже сменялись тонкими, еще голыми, как прутья, кустами ягод и высокий забор показывал из-за своих позеленевших досок только красные трубы пригородных фабрик и заводов. Тут она решительно повернулась к Сливину и, просто и открыто глядя ему в глаза, сказала:
– Виталий Федорович, вы видели Кончаева?
Было короткое мгновение, когда Зиночка подумала о том, что она первый раз в жизни открыто выдает свою тайну, которой, как ей раньше казалось, никто в мире не может и не должен знать, так как иначе она умрет от стыда. Сливин хотел покраснеть и смутиться от неловкости положения. Но в следующее мгновение что-то полное, властное и спокойное, какое-то непоколебимое сознание своего права наполнило все тело Зиночки, и она еще более открыто и прямо взглянула Сливину в глаза. И это почувствовал и понял тоже всей душой и Сливин. Его голос прозвучал грустью, но был так же прост и открыт, как всегда, когда он ответил:
– Я видел его вчера и сегодня, вероятно, увижу…
– Скажите мне правду, Витя, – пристально и твердо глядя ему в глаза, спросила она, – опасно там, где он будет?
Сливин, как будто извиняясь, застенчиво пожал плечами.
– Сегодня везде будет опасно… Но главное дело заключается в порту, а их отряд будет, кажется, в фабричном районе. Там не так опасно… хотя… – он беспомощно развел руками, как будто всей душой хотел бы сделать ей приятное и уберечь Кончаева, но не мог и просил снисхождения. Он знал, что Кончаев будет в порту, но солгал и почему-то не почувствовал никакой неловкости, точно так и нужно было.
– Так… – сказала Зиночка и потупилась, машинально пощипывая кончики кос, перекинувшихся на грудь. И вдруг вся покраснела и застыдилась опять, как напроказившая девочка.
– Витя, вы передадите ему письмо?..
И Сливин весь покраснел, но трогательное и просительное доверие в ее светлых, увлажнившихся от стыда и просьбы глазах размягчило его сердце совсем, и какое-то грустное счастье охватило его душу.
– Давайте… я передам, непременно… – сказал он и отвернулся, посмотрев вверх на небо, чтобы скрыть теплые слезы, выступившие на ресницах.
И небо, и розовые облака расплылись в этих слезах.
Потом она скоро-скоро пошла назад, и маленькие каблучки ее светло-желтых туфель быстро и ровно печатали свои крошечные следы на сыром песке дорожки. Сливин понуро шел сзади и с чувством все того же чистого и грустного умиления смотрел на эти следы.
«Зиночка, Зиночка! – с тайным напряжением и бесконечной печалью думал он. – Я знаю, что я некрасив, глуп и гораздо хуже „того“… но мне так хочется жить, так я люблю тебя, так мне больно и горько знать, что ты, такая милая, чистая, такая святая своей красотой и молодостью, скоро будешь принадлежать другому, здоровому, веселому и смелому со всеми женщинами мужчине… Это так невероятно, а между тем так и будет. И никогда, даже когда я умру, ты не узнаешь, как я тебя любил…»
На одно мгновение, мучительное своей беспощадной краткостью, у Сливина скользнула мысль, какой ужас есть в том, что огромное, хорошее и чистое чувство человеческое, составляющее для этого человека все, исчезнет совершенно бесцельно и бессмысленно, никому во всей вселенной не известное, как будто его никогда и не было.
«Лучше пусть будет отказ, насмешка, недоумение, жалость, все что угодно, но надо высказать».
Но сейчас же мысль куце и бессильно свернулась в безнадежный вопрос: ну, что же из этого?
«Да и невозможно это… лучше умереть, чем сказать!» – сказал сам себе Сливин, и еще больше согнулась его длинная фигура, вытянулся нос и опустела душа. В доме все уже было убрано и, хотя мебель оставалась на местах, сразу как-то опустело и похолодело. И окна без гардин, и мебель в чехлах, и разнокалиберная посуда на столе, вместо всегдашней ровно и весело подобранной, говорили о тревоге и страхе в мире всегдашнего мирного уюта.
Маленькая старушка, с заплаканными недоумевающими глазами, встретила Сливина таким взглядом, как будто он мог чем-то помочь ей и все устроить иначе. Но, увидев его унылую фигуру и неуверенные медлительные движения, старушка только вздохнула и спросила:
– Виталий Федорович, вы с нами чайку напьетесь? Сливину как-то не приходило в голову, что чай можно пить и теперь, как всегда. Он удивился.
– Чай? Я, право!.. я, собственно, чаю не хочу… Хотя-я… Он нерешительно пожал плечами, покраснел и неловко сел, одной рукой беря стакан, а другой придвигая булки.
– Ах вы, «хотя-хотя»! – передразнила его Зиночка со слезами на глазах.
– Может, еще выпьете? – добродушно спросила старушка, когда Сливин, смущаясь и торопясь и оттого хлюпая, как теленок, допил стакан.
– Я… – начал было Сливин, но поймал насмешливый взгляд Зиночки и поперхнулся начатым возражением, смиренно принимаясь за новый стакан.
Со двора встрепанный и встревоженный еще больше торопливо прибежал старый Зек.
– Ну, господа, нечего тут… скорее, скорее!.. – суетясь, закричал он, быстро надевая пальто и не попадая в рукава. – Уже весь город двинулся… Говорят, скоро не будут пускать на вокзал… Какой тут чай, помилуйте! – с раздражением закричал он на Сливина.
– Да ему-то что!.. ведь он остается, – сердито отозвалась Зиночка, подвигая Сливину сливки.
– Да… – спохватился Зек и минуту постоял, растерявшись. Он совершенно забыл, что не все бегут из города, и сразу никак не мог ясно воспринять этого. У него мелькнула жалостливая и наставительная мысль что-то сказать Сливину, выяснить ему все безумство и риск пребывания в городе, сказать, что вот он, старик, и то боится за свою жизнь, а у Сливина она вся еще впереди, но маленькая, воробьиная злость вдруг охватила его.
«Ну и дурак! – подумал он. – Сумасшествуют… мальчишки!.. Ну и пусть гибнут, им же хуже».
Он сердито махнул рукой и выбежал, старчески семеня ногами.
Сливин привстал, сконфуженно и удивленно посмотрел ему вслед, именно на эти семенящие ноги, и у него мелькнуло в голове с каким-то наивным сожалением:
«И чего ему… все равно уж далеко от смерти не убежит?»
Но он сейчас же смутился неделикатности своей мысли и заторопился.
– Я вас еще провожу… а то, может, там, на вокзале, что-нибудь…
– Непременно… – опять со слезами на глазах согласилась Зиночка.
VII
Было уже совсем утро, и поезд убегал от города по солнечным, сверкающим от росы лугам. Зиночка, заплаканная и ошеломленная, затолканная со всех сторон, совершенно сбитая с толку той отчаянной борьбой, которую только что вело за места в поезде сбесившееся от страха человеческое стадо, стояла на площадке, притиснутая к самому ее краю спинами и узлами. В первое время почти все молчали, и странно было видеть эти сдавленные, потные кучи людей, с растерянными, округленными глазами, бешено влекомых в зеленых, синих и желтых тесных ящиках по нежно-зеленым свободным полям, радостно озаренным прозрачным утренним солнцем, как будто вздрагивающим от счастья в волнах легкого, чистого воздуха и весело убегающим назад к оставленному городу.
Зиночка, не спуская глаз, смотрела на скрывающиеся за горизонтом пестрые крыши и трубы, главы церквей, блестящих, как звезды, и запыленные зеленоватые купола пригородных садов. Ей было и стыдно, и противно и в себе самой, и во всех окружающих, что они бегут оттуда.
«Какая гадость! – думала она. – Ведь там будут погибать не для себя, а за всех, за нас… для всех этих идиотов, которые, выпуча глаза, бегут куда попало… А те, милые, несчастные!..»
Ей ярко и широко, в картинных и величественных силуэтах, точно в громадной туманной панораме, представились эти люди, которые не побежали перед страшной смертью и там, на улицах, покрытых дымом и кровью, застроенных мрачными и прекрасными баррикадами, точно навороченными из земли, камня и железа руками гигантов, стоят и ждут смерти.
Все, кого она знала, мелькнули перед нею, и их бледные образы были и страдальчески, и прекрасны. Она вся вздрогнула и побледнела: ей нарисовалась какая-то груда камней, дым, огонь и треск выстрелов и бледная, мертвая, прекрасная голова, такая дорогая, единственная, что душа облилась кровью.
– Что я сделала?.. Как пустила, как оставила его одного? Страшно вздрогнуло и сжалось сердце, белый туман покрыл глаза, и вся она ослабела, как будто падая в пропасть.
– Не может быть, не может… Это слишком ужасно!..
И с ужасом, всею силою смятенной души отгоняя страшный образ, Зиночка перебросилась мыслью к Сливину, и ей стало и легче, и жальче, и не смертельная бледность ужаса, а грустные, почти материнские слезы показались на глазах.
«Бедный Сливин!.. – подумала она, грустно улыбаясь его длинному, такому смешному и такому милому образу. – Может быть, и его убьют?..»
И она вспомнила с болью, как необдуманно и легкомысленно стыдила его на вокзале, заметив его растерянность и страх.
Бешеная суета бегущих, по большинству сытых, приличных и хорошо одетых людей, яркое утро, ряды отряда дружинников, прошедших мимо вокзала, когда они подъезжали, гул и шум, рев паровозов и красные флаги, которые показались далеко в конце большой улицы и долго торжественно и загадочно колыхались там над синеющей вдали толпой, – все это возбудило ее, наполнило ощущением грандиозности, торжественности и силы, и вид унылого, бледного Сливина раздражал ее.
– Стыдитесь, вы!.. Если бы я была мужчиной, я бы не кисла, как вы!.. – блестя глазами и вся розовея от нахлынувшего подъема, говорила ему Зиночка.
– Я, право… – краснея до слез и нелепо разводя длинными руками, бормотал Сливин. – Если бы вы знали, Зиночка, какой я трус… Вот еще ничего не видно, может быть, еще ничего не будет, а у меня сердце все время дрожит… Проклятый трус!.. – вдруг прибавил он неожиданно с исказившимся, покрытым пятнами лицом и стиснутыми зубами.
Он всегда был с Зиночкой так откровенен, как ни с кем другим, и именно ей сказать это было для него и невыносимо мучительно, и болезненно приятно.
Другие электронные книги автора Михаил Петрович Арцыбашев
Бунт




 4.5
4.5
Учители жизни




 4.5
4.5