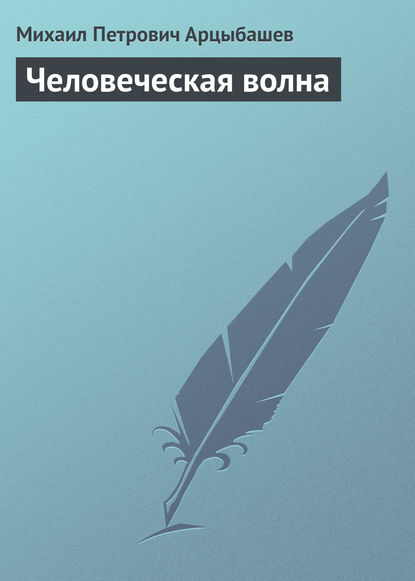По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Человеческая волна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По обыкновению, как требовало его исключительно сильное сладострастное тело, он наслаждался долго, замучив покорную, обожающую его, как высшее существо, теплую, гибкую, молодую женщину, и, когда ушел к себе, все тело его сладко ныло от полного разнеживающего удовлетворения, и в руках, и в ногах, и в мозгу была томная, счастливая лень.
Он с наслаждением вытянулся на холодной постели, потянулся и медленно, лениво стал думать.
«В жизни останется еще много хорошего… что бы там ни было…»
Прежней неуловимой мучительной путаницы уже не чувствовалось. Мысль тянулась одна, прямая и спокойная. Вдруг все показалось очень просто и совсем не так ужасно. Только что насладившееся тело подсказало ему то, что нужно было для того, чтобы успокоить и свою душу.
«Что бы там ни было, а если бы меня убили, расстреляли, я уже не увидел бы никогда того, за что я погиб… Какое же мне дело тогда и до торжества революции, и… тому подобное. Я есть центр вселенной, для меня все существует только постольку, поскольку я сам существую, а с моей смертью все исчезает. Значит, я принес бы себя в жертву за мираж, которого для меня после смерти не будет… Это вовсе не трусость, а просто логика… Боязнь других, стыда и тому подобное, вот что действительно трусость… Да, не хочу умирать ни для кого и ни за кого, не хочу и не умру… И те идиоты, которые умрут, будут только идиоты и не больше… Лавренко же говорит, что жизнь есть борьба существования со смертью, а благо жизни в осуществлении своей свободы… Ну, я не хочу умирать, значит, хочу жить, потому что мне этого хочется. Хочу быть свободным, бороться со смертью и мнением людей, и, значит, я прав…»
Он облегченно вздохнул и заложил руки под голову устало и спокойно.
На мгновение в нем шевельнулось что-то грустное: как будто из его жизни он сам изгонял что-то светлое, дорогое, во что он верил и верит и сейчас, несмотря ни на что.
«А ведь я убиваю часть своей… жизни… ведь я борюсь не со смертью, а с жизнью… той жизнью, которая всегда звала и зовет меня быть смелым, твердым, свободным от страха…»
Он торопливо перебил себя.
«Так все можно перевернуть… Это – мудрование, и больше ничего, а жизнь и есть жизнь, смерть и есть смерть…»
Вдруг какой-то звук родился в темноте и где-то далеко как будто прогремел глухой выстрел. Зарницкий быстро поднял голову.
Все было тихо, но что-то тревожное как будто стояло в воздухе. Зарницкий сидел на кровати и слушал, слыша только встревоженное биение своего сердца. Кругом стоял неподвижный глухой мрак.
Сначала было тихо, но потом где-то внизу на улице почудилась сдержанная безмолвная суета. Тревога стала расти больше и больше. Зарницкий поспешно встал и, шагая нагревшимися босыми ногами по холодному полу, подошел к окну. Он встал на стул, отворил форточку и высунул голову на улицу.
Сырой весенний ветер, дующий с моря, охватил его разгоряченную голову и грудь. Зубы забили дрожь, и по спине проползло что-то холодное и неприятное. Все было пусто и тихо, и, чернея окнами, неподвижно стояли напротив темные, как будто вымершие дома.
«Послышалось, – подумал Зарницкий. – Еще простудишься!..»
Он затворил форточку, лег и долго не мог избавиться от неприятной ознобной дрожи. Потом заснул и спал до утра тяжелым и кошмарным сном, в котором все, что он думал и видел днем, сплеталось в болезненные, неуловимо быстрые видения, принимая необыкновенные, странные формы.
Утром он проснулся с тяжелой головой, скверным вкусом во рту и нервной тоской. Наступал день, которым надо было или, может быть, кончить свою жизнь, или, наверное, принять неизбежный унизительный позор, и он уже знал, что именно будет.
VI
Последний день многих человеческих жизней настал так же ясно, спокойно и прекрасно, как всегда. Высоко над городом и морем заголубел нежно-прозрачный небесный свод, и неподвижно, в мечтательно-радостном ожидании солнца, замерли далекие облака. Они розовели все ярче и ярче; все синее становилось небо, и поэтому чувствовалось неуклонное и торжественное приближение дня, с его блеском, теплом и светом.
Было еще очень рано, и многие из тех людей, которые должны были сегодня умереть, которые должны были убивать и которые должны были принять в свои души мрачное и безобразное зрелище смерти, еще спали. В городе было пусто, и в густой голубизне моря неподвижно застывшие белели и пестрели трубы и мачты судов. Только в порту, где прекратилась обычная бойко– и суетливо-шумная жизнь, невнятно и неопределенно уже рос смутный и зловещий гул. Но он был так ограничен и слаб в бесконечном просторе утра, что здесь, в окраинных переулках, где шел Сливин, уступал самым простым и ничтожным звукам.
Сливин шел быстро и уныло смотрел под ноги, глубоко засунув руки в карманы. Ему было холодно от бессонной ночи, вытянувшей из тела бодрость и теплоту. Костлявые длинные ноги, похожие на две кочерги в болтающихся штанах, шагали непомерно широко, а худое студенческое пальто болталось между ними уныло, как от осеннего ветра. Торчащие лопатки горбились, позеленевший картуз лез на уши.
Впереди него, вдоль забора, кралась худая желтая кошка. Иногда она внезапно останавливалась и на что-то, ей одной видимое, заглядывала своими зелеными, странными глазами в щели и подвальные окна.
Сливину почему-то было грустно-умилительно смотреть на эту кошку и хотелось думать что-то трогательное и печальное так, чтобы в этом трогательном и печальном были и эта кошка, и небо, и утро, и сам Сливин. Хотелось потихоньку плакать, а когда кошка вдруг скрылась под забором, Сливин почувствовал себя одиноким, заброшенным, как потерявшийся мальчик.
Иногда вдруг откуда-то, ничем не вызванная, являлась уверенность, что он все-таки переживет это время, и, когда настанет новое, смутное, в то же время ярко представляющееся, он будет еще счастливее именно оттого, что теперь переживает такую тоску.
«Ведь не всех же убивают! – думал Сливин, шагая все дальше и дальше. – И почему должны убить именно меня… Это глупо!.. и это трусость!.. малодушие, и больше ничего!..»
Какой-то дворник, шаркая по мостовой, поднял метлой целую тучу мелкой пыли прямо в нос Сливину.
И неожиданно Сливин поймал себя на тоненькой, неуловимо, как ящерица, скользящей по изгибам мозга мысли, что пусть лучше всех убьют, только не его.
Он очнулся, похолодев от гадливого и безнадежного презрения к самому себе и стараясь, чтобы никто в мире не догадался об этой подлой мысли, не плюнул ему, Сливину, в глаза, как это надо было бы сделать, он принял суетливый деловой вид и, подавив то, что упорно ныло в груди, ускорил шаги и повернул в переулок, где жили Зек.
Перед подъездом стояла грузная телега ломовика, и дремала, отставив ногу и жуя отвислыми губами, огромная худая лошадь со страдальческими добрыми глазами. От дверей до телеги дорожкой желтела раздерганная солома и валялись рогожки с бечевками. Дворник и ломовой, дюжие и равнодушные ко всему люди, пыхтя, тащили из прихожей сундук, а сам старый Зек, торопливый и седенький старичок, похожий на старого воробья, красный и раздраженный, суетился возле них.
– Осторожней, осторожней! – кричал он и, увидев в дверях длинную оторопелую фигуру Сливина, сердито вскрикнул: – А!.. А мы вот бежим… На старости лет!.. Скажите, Виталий Федорович, что же это такое?..
И старый Зек, ершась, как сердитый воробей, наскакивая и возмущаясь, стал говорить о том, что революционеры ни в грош не ставят чужой жизни, и что это подло.
– К чему же тогда возмущаться правительством?.. Я не черносотенец, я отлично все понимаю, но с какой стати страдать мирным жителям?.. Ну пусть они сами идут на смерть, на виселицу, куда угодно, пусть они святые, но мы-то тут при чем?..
Сливин, сняв картуз и, неловко опустив руки, уныло торчал посреди чемоданов, рогож, соломы и перевернутой мебели и молчал. Он всегда мог говорить только с людьми, в которых был уверен, что они думают как раз в том же духе, как и он. Старый же Зек всегда был ему чужой, и Сливин, как мальчик, боялся его и терялся в его присутствии.
– Нам хочется жить не менее, чем вам, – недоуменно и злобно кипятился старый человек, – мы не виноваты, что одни люди плохо живут, а другие хорошо, и это всегда будет… И согласитесь сами, наконец, что из того, что одним плохо, вовсе не значит, что и те должны страдать, которым живется недурно и которым…
Седые волосы торчали ежиком, и маленькие старые глазки блестели тревожно и злобно, как у сердитого зверька, неожиданно выгнанного из норки.
Сливин все-таки уныло молчал. По его мнению, прямому и непоколебимому, старый Зек был неправ, отстал и совершенно не понимал жизни. Сливин знал и почему он именно неправ, но возражения как-то нерешительно путались у него на языке, быстро и ярко возникая в мозгу при каждом слове Зека и бесследно исчезая при попытке их высказать. И притом он всегда боялся сказать что-нибудь нетактичное и кого-нибудь обидеть.
– Видите ли… это не совсем так… – изо всей силы стараясь выразиться безобиднее и деликатнее, заговорил он, – дело в том, что если одним плохо жить, то это потому, что в этом… именно потому, что другим чересчур хорошо и, конечно, доля вины есть и на них… хотя…
По обыкновению, он сам перебил себя, потому что почувствовал неудобство и бесполезность слов ввиду благосостояния и полной обеспеченности самого Зека. И ему было как-то неловко и чудно, что эта старая воробьиная жизнь так крепко и цепко держится за свое.
«Собственно, старик ведь, – подумал он. – На что ему?»
В дверях гостиной показалась Зиночка. Она была бледна, и глаза у нее были заплаканы и так обведены кругами, что она казалась худенькой. Но по тому, как равнодушно пропустила она мимо ушей восклицание отца, и по тому что у нее одной во всем доме не было заметно торопливости и растерянности, было видно, что в душе у нее нечто свое, другое.
Сливин перешагнул через чемодан и стул, ногою сбил с чемодана на пол свернутые гардины и подал Зиночке руку, не сразу решив, поднимать ли раньше гардины или прежде здороваться, и оттого теряясь до слез.
– Вы ко мне, Виталий Федорович? – с тревожно выжидательным выражением глаз спросила она, снизу заглядывая ему в лицо.
– Да… то есть, я думал предупредить вас, но вы уже знаете, а так у меня ничего особенного… хотя-я…
Глаза Зиночки потухли. Сливин понимал, чего ей нужно, и страдал от деликатности и затаенной даже от самого себя грустной ревности.
«Не надо было приходить…» – почему-то подумал он.
– Пойдемте в сад, мне нужно вам кое-что сказать… – позвала Зиночка и с той спокойной уверенностью, с какой она, чувствуя свою власть над ним, всегда обращалась со Сливиным, повернулась и пошла, не оглядываясь.
– Постойте, Виталий Федорович… – остановил его Зек. – Как вы думаете?.. поспеем мы выехать?.. а?.. Говорят, на поезд уже не попадешь?..
– Комитет обещал вывезти всех желающих… хотя-я… – уныло пожал плечами Сливин и боком пробрался за Зиночкой.
В саду все было покрыто росой, песок на дорожках был совсем сырой, а мокрые зеленые лавочки блестели, как новенькие. Небо уже совсем посветлело, и воробьи чирикали, как днем.
– Рано еще совсем… – несмело пробормотал Сливин, идя за Зиночкой и не спуская наивно восторженных глаз с ее стройной мягкой спины с двумя недлинными пушистыми косами и тихо колышащимися на ходу круглыми, стройными и широкими бедрами.
Другие электронные книги автора Михаил Петрович Арцыбашев
Бунт




 4.5
4.5
Учители жизни




 4.5
4.5