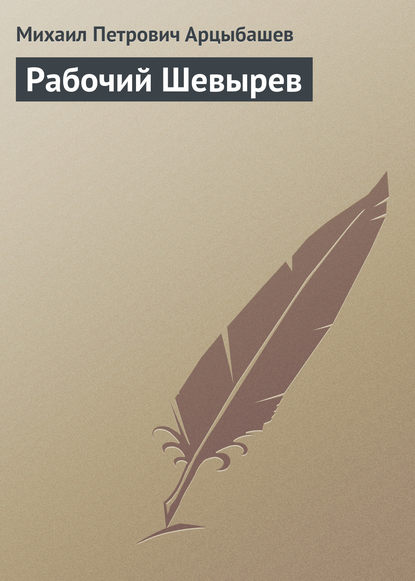По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рабочий Шевырев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дальше где-то жило большое семейство. Оттуда доносился писк детских голосов, похожий на писк целого гнезда голодных мышат; слышался высокий озлобленный крик, очевидно, больной и замученной женщины, а рано утром звучал еще и робкий мужской тенорок.
В темном коридоре, за занавеской, какие-то старички все время торопливо перешептывались, ворошили груды тряпья, копошась, точно черви в падали. Был нуден их боязливый, прерывистый шепоток, который по временам обрывался, точно старички вдруг услышали что-то тревожное и притаились.
Раз заходила к Шевыреву хозяйка, высокая, худая и седая старуха с мутными невидящими глазами. Когда Шевырев отдал ей деньги, она долго смотрела на них и ощупывала сухими пальцами.
– Слепа стала… – сказала она с унылым спокойствием, и Шевырев слышал потом, как она показывала деньги портнихе, а та отвечала серебристо и звонко, очевидно, как все глухие, не думая, что ее слышно:
– Верно, верно, Максимовна!
Так просидел Шевырев часа три, ни разу не изменив позы и только все быстрее и быстрее перебирая пальцами. Внимательно и серьезно он зачем-то впитывал в себя все эти бесцветные звуки, без слов говорившие о том, какой убогой и жалкой может быть человеческая жизнь.
Потом быстро встал, оделся и ушел из дома.
III
Шевырев стоял на заводском дворе и сквозь мутное громадное окно, перекрещенное железным переплетом, смотрел в машинный зал.
Внутри что-то жужжало и тарахтело, и стекла тихонько дрожали. Огромные окна, должно быть, давали внутрь массу света, но со двора, где так светло и высоко возносилось свободное небо, казалось, что внутри царит вечный полумрак. Видно было, как таинственно ползли вверх и вниз какие-то цепи, как стремительно, но, казалось, беззвучно неслись маховые колеса и бежали бесконечные ремни. Все двигалось, копошилось и ворочалось, но людей почти не было заметно. Только иногда, среди черных, холодно отсвечивающих чудовищ, показывалось бледное человеческое лицо с глазами как у мертвеца и сейчас же уходило обратно в мутный мрак, наполненный гулом и движением. Этот страшный гул, казалось, все нарастал и нарастал, но все оставался одним и тем же – тяжким и однообразным. А пыльные стекла окон сливали все в бесцветный тон, плоский и серый, как на полотне какого-то огромного синематографа.
У самого окна, на фоне ворочающихся с неуклюжей ловкостью черных рычагов, колес и поршней, маленькое коленчатое чудовище из стали и железа, уродливо кривляясь и посвистывая в тон общему гулу, быстро стружило холодную медную чушку, и тоненькие золотые стружки торопливо извивались из-под его острых металлических зубок. Над ним качалась согнутая человеческая спина и двигались большие грязные руки. Это качание было мерно и монотонно и до странности сливалось в одно с движениями маленького коленчатого чудовища.
Шевырев внимательно смотрел именно на него. Это был такой же самый станок, как тот, за который когда-то встал он, полный несбывшихся надежд и у которого изо дня в день, с утра и до вечера, простоял пять долгих лет: стоял и здоровый, и больной, и грустный, и веселый, и влюбленный, и замученный думой о тех, к кому рвалась душа.
Если бы кто-нибудь в эту минуту заглянул в глаза Шевыреву, то поразился бы их странному выражению: они не были холодны и ясны, как всегда; в них теплела какая-то нежная грусть и остро выглядывала непримиримая железная ненависть.
По временам губы его вздрагивали и нельзя было понять – улыбка ли это, или Шевырев что-то беззвучно шепчет про себя.
Так простоял он долго, потом резко повернулся, точно по команде, и твердыми шагами пошел прочь.
– Где контора? – спросил он у первого попавшегося навстречу рабочего с таким бледным и запыленным лицом, что живые человеческие глаза на нем казались странными.
– Вон. Второй подъезд, – ответил рабочий и остановился.
– Записываться?.. Не берут, – прибавил он не то сочувственно, не то злорадно и улыбнулся, показав из-под тонких синеватых губ широкие, белые, как у негра, голодные зубы.
Шевырев спокойно посмотрел ему в лицо, как будто хотел сказать: «Знаю…» – и, отворив дверь, вошел в контору.
Там уже ждали человек десять, сидевших вдоль двух высоких белых окон. На светлом фоне виднелись только темные силуэты и тускло блестел синеватый блик на чьей-то гладкой лысине, похожей на череп. Безличные и безглазые силуэты повернулись в сторону Шевырева и опять успокоились в терпеливом привычном ожидании. Шевырев стал у двери и застыл, как на часах.
Долго было тихо. Только по временам переговаривались, наклоняясь друг к другу, безглазые черепа у окон, да три конторщика, согнувшись на высоких конторках, шелестели бумагой и так бойко трещали на счетах, точно показывали свое искусство. Потом, наконец, хлопнула внутренняя дверь и толстый короткошеий человек быстро вошел в контору.
– Никифоров, штрафную ведомость! – самоуверенным пухлым голосом крикнул он.
Конторщик бросил перо и стал рыться в груде синих книг, но в это время вставшие при входе мастера безличные силуэты двинулись со всех сторон и сразу столпились кругом него. Стали видны их поношенные пиджаки, рваные шапки, грязные сапоги, серые лица с голодными глазами и повисшие жилистые руки.
– Господин мастер! – сразу заговорило несколько разнообразно хриплых голосов.
Толстый человек грубо и раздраженно выхватил книгу из рук конторщика и повернулся к ним.
– Опять! – неестественно громко крикнул он. – Ведь вывешено объявление. Ну?
– Дозвольте объяснить, – начал высокий и лысый старик, выдвигаясь вперед.
– Да что тут объяснять! Нет работы, ну и нет!.. Заказов нет… Ну? Скоро своих рассчитывать будем. Странное дело!
На мгновение все примолкли и как будто потупились. Но высокий лысый старик заговорил надорванным слезливым тоном:
– Мы понимаем… Конечно, если работы нет… Что ж тут станешь делать. Только что невмоготу… Голодаем… Нам бы инженера Пустовойтова повидать… В прошлый раз они обещали посмотреть…
Его блестящие голодные глазки с мольбой и страхом смотрели на мастера.
– Нельзя! – вдруг неожиданно свирепея, отрезал мастер и весь налился кровью.
– Федор Карлович… – настойчиво, как будто ничего не слыша, протянул старик.
– Я сто раз вам говаривал, – с сильным немецким акцентом, которого раньше не было слышно, но гораздо тише проговорил мастер, – что инженер тут ни при чем!
– Да они…
– Да их и на заводе сейчас нет, – перебил немец и отвернулся.
– А как же экипаж их у подъезда стоит… – заметил кто-то из кучки.
Мастер быстро повернулся туда, и лицо его подернулось холодной злостью.
– Ну… и стоит! Вам же лучше! – насмешливо выговорил он и опять шагнул к двери.
– Федор Карлович! – поспешно выкрикнул старик, порываясь за ним.
Немец на секунду пристально остановил глаза на его лице и даже не на лице, а на лысине.
– А тебе… – медленно и злорадно выговорил он, – и вовсе ходить нечего. Какой ты работник!
– Федор Карлович, – с отчаянным выражением вскрикнул старик, – помилуйте… разве я… Я завсегда на лучшем счету…
– То всегда, а то теперь, – притворно небрежно бросил немец, – устарел, брат, пора на покой… Лучше и не ходи, все равно!
Он взялся за ручку двери.
– Помилуйте, я…
Но дверь хлопнула, и старик с размаху уперся в ее желтую, как будто насмешливую стену. Он постоял, развел руками и повернулся, точно хотел сказать:
– Ну, вот… Что ж дальше?
И вдруг все стали надевать шапки и выходить на двор.
Однако они не расходились и столпились у подъезда, как маленькое стадо вьючных животных, головами внутрь. Должно быть, многим и идти было некуда, так бесцельно, не то растерянно, не то равнодушно смотрели они под ноги. Один стал закуривать, а другие внимательно следили за ним. Измятая папироса долго не раскуривалась.
Другие электронные книги автора Михаил Петрович Арцыбашев
Бунт




 4.5
4.5
Учители жизни




 4.5
4.5