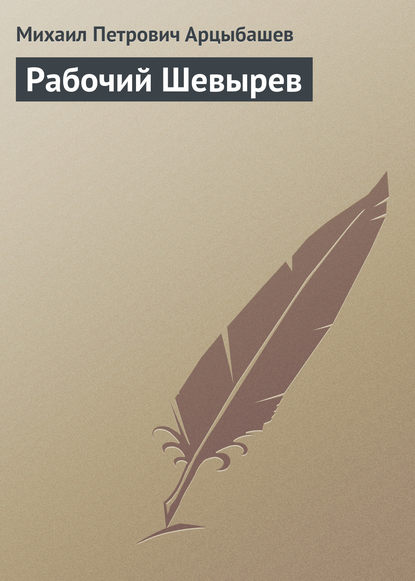По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рабочий Шевырев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Завтра возьму… – отрывисто произнесло ястребиное лицо.
Аладьев молчал.
– Вы, синьор, кажется, недовольны? – развязно и слегка презрительно сказал человечек. – Можете же вы хоть на прощанье оказать эту маленькую услугу? Ведь вы завтра в безопасности?
Аладьев встал и с выражением борьбы на лице прошелся по комнате.
– Вы ведь теперь постепеновец, идеалист, чуть ли не толстовец! – высыпало, как из мешка, ястребиное лицо, ни на минуту не оставаясь спокойным.
– Напрасно вы стараетесь меня оскорбить, Виктор, – с тяжелой мужицкой досадой возразил Аладьев. – Это я, конечно, возьму… до завтра… но вы должны понять…
– Возьмете? – живо спросил человечек. – Это самое главное, а остальное ваше дело, и спорить нам нечего.
– Нет, будем спорить! – крепко ответил Аладьев и остановился, весь покраснев и засверкав глазками.
– К чему? – притворно-равнодушно ответил человечек и, якобы скучливо, отвернулся.
– А к тому, – с досадой сказал Аладьев, – что мы с вами столько лет были друзьями и…
– О, полноте… Стоит ли вспоминать о таких пустяках!
Аладьев мучительно побагровел и задышал тяжко и гневно.
– Может быть, для вас это и пустяки… хотя я этому не верю… Как вы ни старайтесь бравировать… но для меня не пустяки, и мне хочется, чтобы вы хоть раз меня поняли… Объяснимся.
– Оно, знаете, мне некогда… – как будто наивно возразил человечек, и пронзительные глазки его забегали под очками, – но если вам так хочется…
– Да, хочется! – твердо произнес Аладьев.
Человечек дернул плечами и моментально сел, делая вид, что он готов принести жертву.
Аладьев видел это, но пересилил себя и с деланным спокойствием заговорил:
– Прежде всего я ушел от вас не потому, что я струсил, или… вы это прекрасно знаете, Виктор, будьте хоть на этот раз искрении!
– Никто этого и не думает… – вскользь обронил человечек с ястребиным лицом.
– Следовательно, я мог уйти только потому, что в корень и совершенно искренне переменились мои взгляды если не на идею, то на некоторые тактические приемы… Я понял…
– Ах, Боже мой, – моментально вскочил человечек, – избавьте меня от этого… Знаем… Вы поняли… Знаем… Поняли, что насилием нельзя проводить свободу, что надо воспитывать народ и так далее… Знаем!
Слова так быстро и резко вылетали у него изо рта, что казалось, будто они долго сидели там на запоре и вдруг вырвались на свободу. Сам он метался по комнате, вертел во все стороны своим ястребиным лицом, сверкал круглыми очками и махал цепкими, с птичьими пальцами руками.
Аладьев стоял посреди комнаты и не успевал вставить ни одного слова. Их, горячих, проникновенных, как ему казалось, способных дойти до самых глубин человеческого сердца, было много у него в голове. Казалось, что невероятно, чтобы его не поняли, не понял, по крайней мере, этот человек, столько лет близкий, живший вместе с ним, любивший и когда-то веривший в него. А между тем с каждой минутой он чувствовал, что между ними ширится какая-то непереходимая грань и все слова бессильны. Как странно: еще недавно они были так близки, точно соприкасались открытыми сердцами, а теперь казалось, что они совсем чужие, на разных языках говорящие и чуточку даже враждебные друг другу люди. И все это оттого, что Аладьев понял, что убийство есть убийство, во имя чего бы оно ни происходило, и пролитая кровь не может слепить человечество. Только любовь, только безграничное терпение, шаг за шагом веками приближающее людей друг к другу, чтобы сделать их родными братьями по духу, может вывести из истории человечества стихийную борьбу, насилие и власть. Аладьев верил в это всем сердцем своим. Он знал, что в мучительной борьбе духа, в страданиях пройдут века; но что такое века в сравнении с вечностью и ярким солнцем любви, которое взойдет когда-нибудь и высушит всю пролитую кровь в памяти счастливого человечества.
– Ну, и прекрасно… А пока до свиданья… Завтра приду…
Человечек стремительно схватил шапку и протянул цепкую руку.
Аладьев медленно подал свою.
Неожиданно человечек задержал пожатие. Круглые очки как будто призадумались. Но сейчас же он не оставил, а как бы отбросил руку Аладьева и сказал:
– Я, может быть, не приду… Кто-нибудь другой… Пароль – от Ивана Ивановича.
– Хорошо… – не подымая головы, ответил Аладьев.
– Так до свиданья!
Человечек напялил шапку на свою круглую птичью головку и стремительно бросился к двери. Но у двери неожиданно остановился.
– А жаль! – сказал он со странным выражением, и под его блестящими очками стали влажны и грустны маленькие острые глазки. Но он сейчас же справился, кивнул головой и выскочил в коридор. Там он оглянулся на занавески, заглянул в одну и другую дверь, как будто понюхал воздух, сверкнул очками и исчез на лестнице.
Аладьев молча и понурившись сидел у стола.
VII
В сумерки пришли из церкви Максимовна и портниха Оленька. Они принесли с собой тонкий запах ладана, и мечтательное смирение еще теплилось на их лицах, как бы озаренных изнутри тихими светами лампадок, возжженных перед светлыми образами.
Оленька даже не сняла платочка, а только спустила его на плечи и села у стола с мечтательным восторгом, уронив на колени бледные тонкие руки. Максимовна тоже постояла в тихой задумчивости, потом вздохнула, как бы приходя в себя, и стала разворачивать свои тяжелые коричневые платки. Лицо ее стало сразу обычным – озабоченным и сухим. Она посмотрела на Оленьку и как будто про себя проговорила:
– Приготовиться бы надо…
– Что? – испуганно переспросила девушка, подняла на старуху чистые светлые глаза и вдруг порозовела слабым бледным румянцем.
– Приготовиться, милая, говорю… – повысила голос Максимовна. – Василий Степанович обещал часов в семь прийти, так ты принарядилась бы, что ли.
– Сегодня! – с беспомощным ужасом вскрикнула Оленька и вдруг стала опять прозрачно-бледной, точно вся жизнь внезапно ушла из тела и осталась только в больших глазах, полных томления и стыда.
– А что? – со страдальческим нетерпением возразила старуха. – Не сегодня, так завтра. Что уж там еще… Все равно уж, от судьбы не уйдешь, а другого такого случая не скоро дождешься. Таких, как ты, в городе сколько угодно. Не Бог весть какое сокровище!
Руки Оленьки задрожали до самых кончиков пальцев, исколотых иголкой. Она умоляюще смотрела на старуху полными слез глазами.
– Максимовна… пусть лучше завтра. Я… у меня голова болит, Максимовна!
Наивный голосок ее прозвучал таким безысходным ужасом и такой трогательной кроткой мольбой, что Шевырев, сидевший за дверью, в темной комнате, повернул голову и внимательно прислушался.
Максимовна помолчала.
– Ах ты, моя горькая! – сказала она и всхлипнула. – Что ж ты станешь делать… Сама знаю…
– …на что ты идешь! – хотела она прибавить, но сорвалась и только повторила:
– Ничего не поделаешь.
– Максимовна, – дрожащим голосом и молитвенно складывая руки проговорила Оленька, – я лучше… работать буду…
– Много ты наработаешь, – с горькой досадой возразила Максимовна, – куда ты годишься! И побойчее тебя на улицу идут, а ты… и глухая, и глупая… Пропадешь ни за грош. Послушайся лучше меня, хуже не будет. Вот умру я или ослепну совсем… что с тобой тогда будет?
Другие электронные книги автора Михаил Петрович Арцыбашев
Бунт




 4.5
4.5
Учители жизни




 4.5
4.5