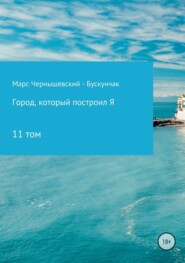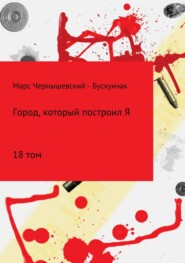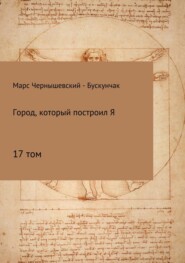По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Город, который построил Я. Сборник. Том 7
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А мой папа был концертмейстером виолончелей и не подозревал о наших причудах в конце сцены.
Бывало, что я в неистовстве кричал и топал ногами, но все близсидящие к нам привыкли к моим выходкам, и на меня в оркестре никто уже не обращал внимания. Так продолжалось до тех пор, пока за дирижерский пульт не встал Гусман. При нем почему-то дядя Валя не рисковал проводить в жизнь свои нереализованные способности режиссера и сценариста, и попросил меня пока послушать репетиции из зала.
Начались опять скучные дни, и я слонялся из угла в угол, не зная, куда себя деть. Но к моей великой радости это продлилось недолго. Одним утром в самом разгаре Четвертой симфонии Шостаковича дядя Валя меня опять подозвал и сказал:
– Вон видишь, дядя играет на фаготе?
На другой стороне сцены, где-то в гуще рядов, очень яростно вдувал кислород в большую и тощую рыжую трубку пожилой лысый очкарик. Когда он издавал на ней звук, то был похож на барбоса из мультфильма, и это меня очень раздражало. Мне он сразу не понравился, и тут очень кстати дядя Валя отдает приказ:
– В перерыве подойди к нему в коридоре и пни его ногой в живот, но только так, чтобы никто не заметил.
Идея мне показалось очень перспективной и даже смешной, несмотря на некоторую жесткость.
Наконец, Израиль Борисович Гусман объявляет пятнадцатиминутный антракт. Я четко слежу за перемещениями фаготиста, который одним из первых покидает сцену и устремляется по коридору в сторону туалета. Я за ним. Он заворачивает за угол, тут уже до места назначения рукой подать. Я за ним. И убедившись, что в коридоре никого кроме нас нет, кричу ему в след:
– Эй, дяденька!
Он поворачивается на возглас, тут же получая пинок в солнечное сплетение. И, как назло, из-за угла выворачивает мой папа, наталкиваясь на нашу батальную сцену:
– Толя! Смотри, что твой сын вытворяет. Разбежался и пнул меня прямо в живот. Я чуть не упал. Прими меры, а то придется пожаловаться Гусману, – обиженно продудел фаготист.
Мой папа, Анатолий Дмитриевич, никогда не был особо мягким папой и, взяв меня за уши, завел в туалет поговорить по душам. Но серьезно поговорить не удалось, так как, заходя в уборную, мы там наткнулись на восседавшего, на керамическом коне Валентина Дмитриевича Гордеева. Тут отец ему сообщает новость:
– Валь, ты представляешь, что этот негодяй сделал? Пнул Пинкусовича в живот! Что с ним сделать, а?
– Толь, а чего ты хотел? Что воспитал, то и получил, – участливо отметил наставник молодежи и юношества, – придешь домой, всыпь ему. Не дай бог, Абрамыч пожалуется Гусману, не оберешься проблем… Ну, Марсик и…и…и… мерзавец!
Я тогда очень на дядю Валю обиделся и старался с ним не разговаривать, и вообще не попадаться на глаза. А он мне все время подмигивал или подначивал еще на что-нибудь, но я не вступал в контакт.
Гастроли горьковского академического симфонического оркестра подходили к концу, и кисловодское филармоническое общество решило организовать для всего состава турпоездку на Эльбрус. Как сейчас помню, все сели в автобус и поехали. Путь был долгий. Три с половиной часа на замызганном временем Икарусе мы преодолевали кабардино-балкарское ущелье и карачаево-черкесские перевалы. Наш гид с кавказским акцентом начала свою работу крылатой фразой (видимо, какого-то выдающегося местного поэта):
– Теберда – это да! А Домбай – это рай!
И мы очень этому обрадовались. Потом она зачем-то стала рассказывать страшные истории про нравы местных племен и плохие дороги. Оставаться, жить в Приэльбрусье очень опасно, а горные реки здесь очень шумные и холодные. Нам вообще очень повезет, если мы без происшествий доедем до назначенного пункта, так как черкесы очень воинственные и часто нападают на автобусы с туристами. И вообще, по ее словам, скоро должно произойти извержения вулкана на Эльбрусе, а лавой затопит все близлежащие города, в том числе и Кисловодск с Ессентуками. Слушать ее было невыносимо жутко, поэтому я просто решил закрыть уши руками. Так я ехал полтора часа, пока наш автобус, наконец, не вырулил на участок у подножья горы Чегет.
По канатной дороге мы стали подниматься на довольно высокое плато Чегета, с которого хорошо был виден двойной пик Эльбруса. Путешествие это было тоже не из приятных. Я сидел у отца на коленях и периодически с них съезжал, рискуя упасть в пропасть высотой пятьдесят метров. Мои руки вцепились в стальные поручни воздушных кресел, а все тело дрожало. Мой страх усилился, когда я понял – расслабленные руки отца, обхватившие меня за пояс, означали что папа Толя спит и ничего не может сделать с моим соскальзывающим вниз телом. Но нам повезло, я никуда не свалился, и через пол часа мы были уже на плато. Через некоторое время туда прибыла и остальная часть оркестра.
Перед нами открылась сказочно-зловещая картина. Справа, всеми цветами радуги засверкал красавец Донгуз-Орунбаши, и было ощущение, что он постепенно приближается и хочет нас поглотить. Слева покоился могучий Эльбрус. Мы все застыли в оцепенении от грандиозности и великолепия горной жемчужины.
Все окружили гида в ожидании интересной информации, но она стала нам сообщать примерные даты ожидаемого извержения вулкана, которые варьировались от данного момента до трех лет. Мне было невыносимо страшно, и я опять закрыл уши руками. Когда руки уставали и, убедившись, что информация еще не полностью доведена до любопытных слушателей, я начинал ныть, чтобы внутренним голосом заглушить ее страшные предзнаменования. Вскоре у меня началось головокружение и тошнота, но я держался, стараясь не подавать виду.
Наконец, все закончилось, мы, спустившись на небесном эскалаторе вниз, попрыгали в автобус и отправились в обратный путь. Все изрядно переутомились и тут же задремали. Не спал только я один. Мне все время казалось, что вот-вот произойдет то, о чем нас предупреждала экскурсовод – лава хлынет из недр двуглавого гиганта и настигнет нас в пути.
– Только бы успеть, только бы успеть доехать хотя бы до Кисловодска, а завтра мы уже уедем домой в Горький. Должно же нам хоть когда-нибудь повезти! – молился я солнцу, траве и булыжникам. Молился бы и Богу, если бы тогда знал о его существовании. И чем дальше мы уезжали от Эльбруса, тем все реальнее перед моими глазами выплывала картина "Последний день Помпеи".
И тут меня опять жутко затошнило. Я крепился, как мог, но в какой-то момент из моих недр вырвался первый выброс магмы. Тут все разом проснулись, стали кричать шоферу, чтобы он остановил автобус. Как только открылись двери, я вихрем понесся под первый большой камень извергать все, что у меня накопилось. Казалось, что этот кошмар не прекратится никогда. Я понял, что вся лава, покоившаяся в глубинах кавказских гор, необыкновенным образом перелилась в меня, и я принял удар природы на себя, спасая тем самым всех наших симфонических туристов от катастрофы и неминуемой гибели в пеплах разбушевавшейся стихии. Все оркестранты окружили меня. Когда закончилась очередная рвотная конвульсия, я исподлобья посмотрел на музыкантов, образовавших священный круг, в центре которого я стоял на карачках. У всех было жалобное выражение лиц, кроме двух скрипачек, которые ехидно улыбались. И мне стало так обидно, что меня прорвало с новой силой. Такого мощного извержения эта земля еще не видала. Дрожал весь кавказский хребет, и люди покидали свои дома в надежде на спасение. Но как тут спасешься, когда раскаленная жидкость со скоростью звука и ветра превращала все живое в порошок.
Наконец, в самый кульминационный момент, когда прогремел последний выброс несварений, я поднял глаза и увидел, как к моему отцу подошел дядя Валя. Он с братской теплотой обнял его и трагически произнес:
– Да, Толик… Хороший у тебя был сын.
Теперь-то, я думаю, можно уж точно поставить жирную точку. Потому, как и потом происходило нечто необычное и даже смешное, но почему-то не осталось в памяти. А раз не осталось, то и продолжать рассказ не имеет смысла. Уж пусть он остается таким, каков есть.
Хотя нет, извините. Была одна маленькая история, которую недавно мне рассказал отец.
Была премьера симфонии Чайковского (не помню точно нумерацию), дирижировал горьковским оркестром Ростропович. Тарелочник заболел, нужно было срочно искать другого. В результате, другого не нашли, и Михаил Абрамович Пинкусович (фагот, см. выше), вызвался помочь. Он когда-то в пионерском лагере играл на малом барабане и обещал, что проблем у оркестра не возникнет. Но на репетициях он никак не мог поймать слабую долю и играл все время в сильную. Ростропович все время останавливал оркестр и просил нового тарелочника быть повнимательнее к партитуре, на что Пинкусович все время отвечал:
– Мстислав Леопольдович, не обращайте внимания, на концерте все будет нормально! Не придавайте значения маленьким казусам.
Ну, конечно же все понимали, что на премьере все будет хорошо, фаготист, да и вообще музыкант он замечательный и всеобщеуважаемый.
Наконец, премьера. Симфония зазвучала, аж мурашки поползли по телу, насколько здорово Мстислав Леопольдович поработал с оркестром. Кульминация, в музыкальную ткань врывается большой барабан, литавры и, о боже! Тарелки! Но что они играют! Ни в слабую долю, ни в сильную, а где-то в промежутках! У оркестрантов паника, все на грани срыва! И вдруг, тишина – кода. В самом тихом месте тарелочник вдруг со всего маху наносит серию ударов, и симфония превращается в фарс (как потом выяснилось, ему поставили не те ноты). Последний взмах дирижерской палочки, аплодисменты, браво и т.д.
Ростропович убегает со сцены, врывается в костюмерную духовиков с возгласом:
– Где эта гнусь – Михал Абрамыч!!! Дайте мне его сюда!
А Пинкусович в это время от страха уже был дома и досматривал по телевизору футбольный матч чемпионата СССР: Торпедо – Кайрат.