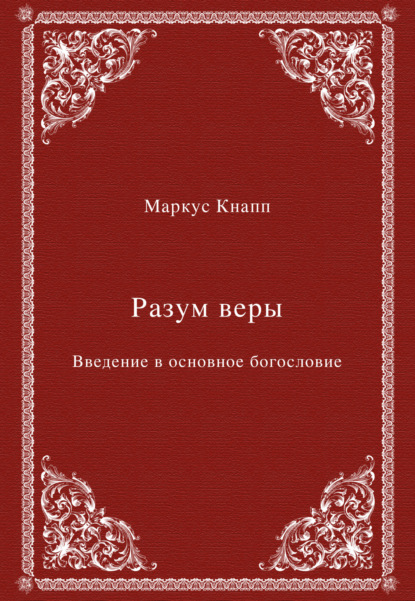По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Разум веры. Введение в основное богословие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
3. Ойген Бизер: герменевтическое основное богословие
Исходным пунктом для опубликованного в 1975 г. Ойгеном Бизером «Очерка герменевтического основного богословия» стала продолжающаяся детрадиционализация современного общества. Самоочевидность этого процесса лишила традиции легитимирующей силы. Поэтому Бизер (р. 1918) справедливо признает, что и христианство встало здесь перед новым мощным вызовом. «Вопрос о возможной преемственности в условиях разрыва, связанного с повсеместной утратой традиции, на самом деле является кардинальным вопросом веры в наше время» (Biser, 1975, 12).
Этой ситуации основное богословие ранее не отдавало должного, причем как экстринзецистское, строящее свою аргументацию на внешних проявлениях Божественной силы, так и пользующееся имманентным методом. Слабое место того и другого состоит в том, что оба метода ведут лишь к познанию достоверности предметов веры, но при этом остается незаполненной пропасть, отделяющая человека от самой веры (Fuchs, Kreiner, 1983, 401 след.). «Появляющаяся вместе с верой задача ее защиты от скепсиса и сомнения ставится не ею самой, но той инстанцией, которая сама считается очагом обращенных против нее возражений – разумом». Но это значит, что «к собственным факторам веры подходят и обсуждают их в рациональной перспективе, то есть с той точки зрения, с которой можно подойти к ней, но не с той, с которой следовало бы войти в нее». Уверенность, присущая вере, не может быть выражена таким способом. «Искажение пропорций и подмена смысла явились вредными, но и неизбежными последствиями этого» (Biser, 1975, 25). Тогда как экстринзецизм вел только к познанию, опосредованному внешними доказательствами, метод имманентности пытался ввести в игру лишь отдельное, личное вероубеждение, но не сделать веру сообщимой в процессе диалога. «Ни непосредственный, ни опосредованный – вот как может быть описан путь апории» (Biser, 1975, 70). Он мог достигаться в обществе и культуре, на которые наложило свой отпечаток христианство, но после утраты самоочевидности христианской веры в результате разрыва традиции он был утрачен.
То, что из этого вытекает, уже не в состоянии поддерживать прежнее основное богословие. Теперь верно, что «христианство должно здесь и сейчас быть открытым заново, совершенно так, как если бы это был творческий акт настоящего момента, а не наследство, полученное из древнего предания. Ибо действенную помощь людям этого времени может оказать лишь нынешнее, современное» (Biser, 1975, 13). Вера не дает обосновать себя в событии прошлого, которое впоследствии принимается за вероятное. Вера должна быть обоснована собственным настоящим.
Отсюда требуется новая концепция основного богословия как «идущего в ногу с духом времени» (Biser, 1975, 18; Fuchs, Kreiner, 1983, 402–404). Его адресатом уже не может оставаться всеобщий человеческий разум, но им должен стать человек в своей конкретной, исторически определенной ситуации жизни и веры. Только так вера может сделаться понятной в современности.
«Здесь поможет лишь некий, если угодно, “коперниканский” переворот. Если от разума и экзистенциального акта не получается прийти к вере, нужно посмотреть, не ведет ли к цели обратный путь. Это равнозначно, с методологической точки зрения, попытке – на первый взгляд кажущейся парадоксальной – отыскать исходную точку обоснования веры в самой вере» (Biser, 1975, 52).
Но это и есть современная вера с ее опытом, и опыт следует насытить пониманием, чтобы к нему можно было приобщиться. В таком смысле «вера должна быть обоснована герменевтически, то есть по образу акта понимания, который сам себя поддерживает. И это значит: ее собственная достоверность должна быть принята как она сама… помимо лежащих в ее основе доказательств» (Biser, 1975, 55). Таким образом, вера находит свое обоснование в текущей, исторически данной жизненной ситуации. Соответствующий опыт позволяет затем передавать себя далее. При этом утверждения в области основного богословия должны «быть не просто озвучиванием абстрактной аргументации; напротив, сообразно ситуации в человеческом мире их адресата им следует проявлять характер приглашения к диалогу, ибо только так они могут убедить его» (Biser, 1975, 52). Следовательно, речь также идет и о том, чтобы найти подходящий язык для передачи опыта, полученного при помощи веры. «Отсеченная от своей укорененности в истории спасения» (Biser, 1975, 62), вера может быть герменевтически обоснована только в речевом событии диалога. В нем устанавливается также и собственная уверенность веры.
С этой герменевтической точки зрения Бизер осмысляет далее и апологетическую задачу основного богословия. «Разработка препятствий, противостоящих вере в форме трудностей и сомнений», оказывается прежде всего работой с языковыми барьерами и поэтому должна посвятить себя «методам, направленным на их преодоление» (Biser, 1975, 56). Если этого недостаточно, если сохраняются скепсис и неприятие веры в откровение, то уже скептик или критик обязан обосновать свой взгляд (ср. Niemann, 1984, 442). И это обоснование будет принято только тогда, когда критические возражения достигнут, по меньшей мере, такой же степени очевидности, как и сама вера.
Таким образом, по сравнению с традиционным основным богословием, бремя доказательства здесь перевернуто – так как вера есть «акт понимания, который сам себя поддерживает», она не нуждается в сторонних обоснованиях. Поэтому и сторонние возражения не могут поколебать ее собственную достоверность. О столь последовательной герменевтической трансформации основного богословия, как та, что была предпринята Бизером, можно сказать следующее: «Обоснование больше не ориентируется на доказательство истины, но понимается как род внутренней удостоверенности» (Meyer zu Schlochtern, 1976, 349).
4. Петер Кнауэр: экуменическое основное богословие
Петер Кнауэр также развивал герменевтическое основное богословие в своем впервые опубликованном в 1978 г. труде «Вера от слышания» – «первом учебнике по основному богословию, в котором богословский прорыв Второго Ватиканского Собора был систематически отрефлексирован как ясно продуманная концепция и дидактически тщательно опосредован» (Verweyen, 2000a, 21). При этом особый акцент был сделан им на экуменической направленности. Кнауэр обосновывал это тем, что разделение христианства противоречит в сознании верующих его обязанности быть понятным для всех. Однако его основное богословие не стало надконфессиональным. Кнауэр не стремился также найти воображаемую «нейтральную» точку зрения по ту сторону различных исповеданий христианской веры. Его интенция заключалась не в том, чтобы «разные языки той же веры заменить одним единственным языком». Напротив, речь шла о том, чтобы «показать, как разные языки веры должны переводиться друг в друга» (Knauer, 1991, 16). Богословское основание и легитимацию для этого Кнауэр видел в утверждении Второго Ватикана, согласно которому между верующими во Христа есть «истинное общение во Святом Духе» (Lumen gentium, 15). «Это, кажется, говорит об уже существующем единстве между всеми верующими, которое усилиями к пониманию не может быть превзойдено, но с их помощью должно быть недвусмысленно принято» (Knauer, 1991, 17). Следовательно, в экуменическом основном богословии речь идет о том, чтобы «научиться взаимному переводу христианских теологий». Последние «вообще только в том смысле правильны, в каком они могут быть переведены друг в друга и распознаны как выражение согласия в вере. Только в таком переводе обретается богатство (“полнота кафоличности”) своей собственной веры» (Knauer, 1991, 224 след.).
Это экуменическое устремление вполне органично примыкает к герменевтическому концепту основного богословия. Ибо, будучи таковым, оно не может абстрагироваться от веры, как это произошло в основном богословии традиционного типа, где подход был, по Кнауэру, «в сущности неисторическим» в своем игнорировании того факта, «что мы уже давно в действительной жизни столкнулись с христианской вестью» (Knauer, 1984, 204). Поэтому в герменевтическом основном богословии, согласно Кнауэру – и здесь он акцентирует иначе, чем Бизер, – должна идти речь о понимании оснований возвещаемой в этих обстоятельствах веры.
«Что такое, в сущности, вера? Как относятся друг к другу ее содержание и акт, или что следует для понимания содержания веры из того, что она может быть воспринята как истинная только в таком познании, которое принесено Святым Духом? Какого рода уверенность присуща вере, и на чем она основана? Что в человеке представляет собой точку соприкосновения с верой? Какие предпосылки доступны только изнутри самой веры, и какие могут быть распознаны также помимо вероубеждения? … И, наконец, как может вера давать отчет не только перед тем, кто уже верует, но и перед всяким человеком?» (Knauer, 1991, 16).
Отправной пункт для прояснения всех этих вопросов Кнауэр видит в притязании христианской вести быть «словом Божьим». Это предполагает возможность обращения человека непосредственно Богом и, вместе с тем, сообщества Бога и людей. Но это, кажется, противоречит смыслу понятия «Бог», особенно – примысливаемой к Нему непостижимости. Если, с библейской точки зрения, исходить из сотворенности мира, которую Кнауэр считает философски в строгом смысле доказуемой (ср.: Knauer, 1991, 43–56), то Бог является предметом одностороннего и безусловного отношения со стороны мира. Но как возможно сообщество человека с Богом при таком одностороннем и безусловном отношении мира к Богу? Так само понятие о Боге ставит наибольшее препятствие перед возможностью говорить о «слове Божьем». «Кто ссылается на “слово Божье”, кажется, ссылается на что-то совершенно невозможное. Поэтому разрешение вопроса об откровении требует особого внимания» (Knauer, 1991, 87).
Особое внимание и уделяется ему в христианском послании. Ибо тринитарное видение Бога, достигнутое в христианской традиции, дает критерий, позволяющий непротиворечиво говорить о пришествии слова Божьего. Реальное отношение Бога к человеку возможно, ибо оно может быть понято как включение человека в предвечно установленное в Боге отношение Отца к Сыну. Осуществляется оно через принятие Святого Духа, Который в Боге связует Отца и Сына взаимно, а затем опосредует и для человека сообщество с Богом. Это реальное отношение Бога к миру для мира самого по себе, однако, недостижимо, напротив, оно «возможно только как “сверхъестественное”, то есть как наше включение в любовь Божию к Богу, Отца к Сыну» (Knauer, 1991, 195). Итак, сообщество Бога с человеком может быть открыто и даровано только через слово Божье, которое человек способен воспринять лишь в вере. «Вера от слышания», гласит заглавие программного труда Кнауэра по основному богословию, с опорой на апостола Павла (Рим 10:17).
Таким образом, христианская весть способна сама прояснять свое притязание быть Божьим словом. Но этим еще ни в коем случае не доказывается ее истинность и достоверность. Ибо вера способна сделать саму себя истинной и достоверной только в вере, которая означает не что иное, как наполненность Святым Духом. Такая вера сообщает человеку уверенность в том, что он принят Богом в безусловной любви, лишая власти его страх за самого себя – источник всякого бесчеловечия.
Такое понимание веры также позволяет Кнауэру утвердиться в своих экуменических намерениях, осуществляя перевод с языка на язык между христианскими конфессиями. «Для понимания устремлений реформаторской теологии решающим является сознание того, что никакое сотворенное качество не может быть основанием для сообщества с Богом; в то же время, православная теология указывает на то, что сообщество с Богом возможно только во Святом Духе, связующем Лица воедино» (Knauer, 1991, 17, пр. 1).
Но то, что вера может доказать свою истинность и достоверность лишь в вере же, не дает ей иммунитета против непонимания со стороны разума. Правда, нельзя «веру ни выводить из разумных оснований, ни доказывать с их помощью или даже только делать приемлемой» (Knauer, 1991, 395), поскольку речь здесь идет о «сверхъестественной» действительности. Тем не менее, разум имеет важное, неотъемлемое значение для веры. Ему надлежит при помощи разумных аргументов преодолеть возражения, выдвигаемые против веры от имени разума. Ибо «ничто не может быть предметом веры, если противоречит разуму, сохраняющему свою автономию. В этом смысле разуму принадлежит даже преимущество перед верой. Также ради веры, и именно ради нее, нужно следить за тем, чтобы самостоятельность и критическая функция разума были соблюдены» (Knauer, 1991, 396). Разум защищает веру от ее искажения и снижения до суеверия. Истинной вера остается только тогда, когда она сохраняет свободу от суеверия, т. е. от смешения с такими допущениями и содержаниями, которые в принципе являются предметом знания и, следовательно, подлежат суждению разума. Чтобы предохранить себя от подобного губительного смешения, вера нуждается в разуме. Только при его поддержке она может оставаться чистой верой, исполненной Святого Духа.
5. Иоганн Баптист Мец: практическое основное богословие
Основное богословие И. Б. Меца (р. 1928) происходит из 60-х гг. ХХ века, из критического разворота против трансцендентальной теологии его учителя Карла Ранера и аналогичных богословских концепций, таких как экзистенциальная интерпретация библейского послания у евангелического теолога Рудольфа Бультмана. Общим для этих форм теологии, по Мецу, было то, что в них доминировали «категории интимного, приватного, аполитичного» (Metz, 1969, 100). Они представляли христианское послание в укороченном виде. В них «слово благовестия было понято как чистое слово-обращение, слово персонального самосообщения Бога, но не как слово общественно-значимого обетования» (Metz, 1969, 101). Религиозный субъект изолировался от общественно-политической действительности, к которой он, при этом, неотъемлемо принадлежал, и фокусировался всецело на своем спасении. Так, Ранеру Мец ставит в упрек следующее:
«Выработанное в трансцендентальной теологии субъекта понятие об опыте не имеет структуры исторического опыта. Оно погружает общественные противоречия и антагонизмы, которые исторический опыт болезненно проживает и в которых конституирует себя исторический субъект, в беспредметность некоего заранее известного “трансцендентального опыта”, в котором эти противоречия уже примирены недиалектическим способом. Трансцендентальная теология субъек- та поэтому работает как сверхлегитимация религиозного субъекта перед лицом исторического страдания человечества» (Metz, 1992a, 78).
Отсюда Мец усматривает как основную герменевтическую проблему в богословии отношение «между веропониманием и социальной практикой», подразумевая под этим «раскрытие социального потенциала веры» (Metz, 1969, 104). В ходе работы над своей версией основного богословия Мец снова и снова заостряет внимание на его социокультурном окружении. Он, в особенности, считает отличительной чертой последнего объяснение мира в логике эволюции – объяснение, укорененное в Просвещении и западно-буржуазной цивилизации, но также определяющее собой историческую диалектику марксистского материализма.
Это «понимание действительности, которое руководит научно-техническим овладением природой и предоставляет резервы для культа целесообразности, характеризуется понятием времени как пустого, эволюционно растущего в бесконечность континуума, в котором все беспощадно заключено. Оно исключает любое субстанциальное чаяние (treibt jede substantielle Erwartung aus) и производит род фатализма, разъедающего душу современного человека» (Metz, 1992a, 166).
В данной эволюционистской перспективе религия объясняется и классифицируется при помощи метатеории с точки зрения логики развития, так что ее специфическая действительность и динамика больше не принимаются во внимание.
Основное богословие, исходящее из адекватного представления этой ситуации, должно по сути принять апологетическое направление. Оно должно защищать и оправдывать христианство в его аутентичности, работая над его метатеоретическим осмыслением (metatheoretischen Einordnung) и сравнивая с другими верами. При этом оно не должно – «в отличие от времен метафизики, т. е. времен, когда общество само себя определяло посредством религиозной конечной цели» (Metz, 1992a, 21 след.) – перенимать доминирующие сегодня теоретические подходы. Ибо в логике эволюционизма «Бог – как Бог живых и мертвых, Бог, не оставляющий в покое даже прошлое, даже мертвецов – совершенно немыслим. Она есть, в намного большей степени, чем любой выраженный атеизм, который в своем отрицании все еще захвачен отрицаемым, настоящее безпафосное безбожие» (Metz, 1992a, 169).
Но при этом основное богословие ни в коем случае не направлено только «вовне», а обязательно также «внутрь», во внутреннее пространство самого христианства. Ибо лишь здесь оно может обеспечить себе основания для выполнения своей апологетической задачи – оно должно, «чтобы не подвергаться риску спекулятивного регресса в бесконечность, обратиться на субъекта и его практику; должно и само себя понять как практически-обосновывающую дисциплину – практическое основное богословие» (Metz, 1992a, 24). Речь идет о такой практике, в которой значение христианской веры проявляется и доказывает свою действенность. Но с этим, по Мецу, в буржуазном христианстве дело обстоит не лучшим образом. Более того, «исторический кризис христианства, в сущности, есть не кризис его благовестия и содержания веры, но кризис его субъектов и институций, которые слишком удалились от необходимо присущего этому содержанию практического смысла» (Metz, 1992a, 165).
Испытательное поле для такого рода основного богословия лежит «вне предзаданных богословских систем» (Metz, 1992a, 27). Но именно так оно оказывается «исследованием оснований богословия» (Metz, 1992a, 23). Вопрос в нем ставится об идентичности христианства, и не внеисторической, заранее твердо поставленной идентичности, а об оспариваемой в постоянной борьбе, всякий раз устанавливающей и испытующей себя в противоречивых, болезненных опытах и сражениях конкретно-исторической жизни. Мец пытается прояснить это при помощи известной сказки о беге наперегонки между зайцем и ежом, которую он читает «против шерсти», принимая сторону зайца. Возможность, которой обладает заяц, есть «возможность вхождения в поле истории, которое пересекается только в беге, в состязании, в полете (и, как всегда, именно тексты Павловой традиции призывают христиан к историко-эсхатологической жизни). Эта возможность означает, вместе с тем, для зайца попытку критически разоблачить идеалистическое обеспечение поставленной под угрозу идентичности христианства, отвлеченное от идентифицирующей силы практики (бега), – так сказать, богословскую уловку ежа, который обеспечивает себе идентичность, или победу, без опыта бега (т. е. без опыта опасности и риска неудачи)» (Metz, 1992a, 159).
Поэтому основное богословие должно постоянно давать себя перебивать и смущать актуальной христианской практике веры. Мера, которой должна испытываться сама эта практика, есть memoria passionis, mortis et resurrectionis Jesu Christi[60 - Память страстей, смерти и воскресения Иисуса Христа (лат.). – Прим. пер.]. Мец смотрит поэтому на «рассказ» и «воспоминание» как на «когнитивное соответствие» христианской практике (Metz, 1992a, 158). Таким образом, история Иисуса становится снова и снова современной – как камень преткновения и призыв к преемственности. Одновременно христианская практика предохраняется ею от того, чтобы производить себя из господствующей общественной тотальности или поступать на службу к ней. Более того, memoria passionis, mortis et resurrectionis Jesu Christi оказывается опасным воспоминанием, поскольку обращает взор на заброшенных, на удел стесненных, страждущих и угнетенных.
Практическое основное богословие – подразумевается практика, которая ориентируется на следование за Иисусом – стремится «в нарративном и аргументативном образе свободного воспоминания, как определенном образе надежды, отвечать на обстоятельства нового времени» (Metz, 1992a, 191). Оно позволяет охарактеризовать себя, в разграничении с трансцендентальным богословием субъекта, как богословие субъекта, ориентированное на следование Христу. При этом оно предоставляет «опцию для возможности солидарного субъектного существования всех людей», понимая себя как отчет о «солидарном уповании на Бога Иисуса как Бога живых и мертвых, Который всех призывает к субъектности пред лицем Своим» (Metz, 1992a, 84, 86). Такое основное богословие должно быть – или становиться снова и снова – восприимчивым к страданиям и вопросам теодицеи, в том числе предъявляя иски к Богу и за еще невыполненные обетования. Но именно так оно противостоит логике эволюционной мысли, подчиняющей все пустому, эволюционно растущему в бесконечность континууму времени, для которой, «в конечном итоге, все равносильно смерти» (Metz, 1992a, 169). Напротив, Бог есть, «по-библейски, не другой момент времени, но его конец, ограничение, разрыв – и потому его возможность» (Metz, 1992a, 169). Только в подобном горизонте ограниченного, заключенного в установленный срок времени возникает надежда на нечто окончательное – избавление и спасение, оправдание и примирение, возвращение к самому себе, то есть нечто такое, чего нельзя превзойти продолжающемуся в бесконечность, до самого погружения в забвение, течению времени. Поэтому и «речь о “последнем” и “окончательном” слове обетования Божья человечеству в Иисусе Христе… сама есть некое высказывание о времени. Она делает необходимой логику ограниченного времени», которое, как таковое, остается необгоняемым и обладает «повествовательно-памятной глубинной структурой» (Metz, 1997, 162). Именно это и явля- ется необходимым условием Церкви как повествовательно- памятного сообщества, а также практики христианской веры, насколько то и другое имеет свою центральную точку отсчета в memoria Jesu Christi[61 - Память Иисуса Христа (лат.). – Прим. пер.].
6. Гельмут Пойкерт: основное богословие теории действия
В своем «Анализе оснований и статуса богословского теоретического образования» Гельмут Пойкерт (р. 1934) подхватывает тезис своего учителя Меца об анамнетической[62 - Т. е. связанный с воспоминанием (греч. anamnesis). – Прим. пер.] структуре христианской веры и теологии, когда задается вопросом: возможно ли вообще рискованное и освобождающее воспоминание, когда отношение к собственной истории – как показывает на парадигматическом уровне психоанализ – может обезображиваться искаженной памятью и структурами нарушенной коммуникации? Чтобы преодолеть подозрение, Пойкерт обращается к богословской теории коммуникации, способной отследить подобные искажения и помехи. Она должна помочь прояснить, «обладают ли богословские высказывания и речевые коммуникативные практики, вырастающие из христианской традиции, обновляющей и критической силой для того, чтобы прорвать, разоблачить несправедливость и насилие в интерактивных взаимоотношениях (то, что по-библейски называется “миром”), исправляя и врачуя их как языковые действия» (Peukert, 1978, 70). При этом Пойкерт имеет в виду научно-теоретическое обоснование практического основного богословия, еще отсутствовавшее у Меца. Сам он понимает это предприятие как «основное богословие», которому приписывает две задачи. Это, «с одной стороны, научная теория богословия, раскрывающая диапазон предметов и проясняющая возможность его теоретического постижения. С другой стороны, это основное богословие в том смысле, что в нем вырабатываются основные богословские утверждения, которые должны развиваться в теологии в целом и выполняют герменевтическую функцию для целого» (Peukert, 1978, 18).
Пойкерт начинает с реконструкции научно-теоретической дискуссии ХХ века, в начале которой стоит обсуждение возможности теологии как науки у раннего Витгенштейна и в Венском кружке. В ходе этих научно-теоретических дебатов как основа научной рациональности все больше и больше выкристаллизовывалось коммуникативное действие, так что теоретические вопросы науки в конечном счете сводились к теории коммуникативного действия. Пойкерт видит в ней
… «предельный намеченный идеал …, достижимый в рамках Нового времени. Это основанное на коммуникативной практике предвосхищение человека, который в противопоставленности природе и во все далее заходящей рефлексии относительно своего положения и своих возможностей постигает, что сам он в своем свободном историческом движении постоянно создает горизонт, в пределах которого должны быть решены все вопросы … Свобода в универсальной, исторически понимаемой солидарности, кажется, очерчивает предельную границу мыслимого» (Peukert, 1978, 300).
Теория коммуникативного действия должна, таким образом, вырабатывать нормативный фундамент для практической деятельности, а также для науки.
Однако, согласно Пойкерту, в центр этой теории, как только она приступает к вопросу об устроении единого солидарного человечества, прорывается апория. Ибо единое солидарное человечество должно было бы включать в себя всех людей, равно как и тех, в частности, кто стал жертвой истории. Здесь требуется анамнетическая солидарность, которая появляется только как парадокс. Так, в теории коммуникативного действия, разработанной Юргеном Хабермасом, эта апория остается без ответа. Пойкерт выдвигает в ее отношении два тезиса:
«Я хочу сказать, во-первых, что в иудео-христианской традиции речь идет о такой действительности, которая переживается в опыте оснований и границ коммуникативного действия, и о таком роде коммуникативного действия, которое возможно ввиду этого опыта. Во-вторых, я хочу сказать, что основное богословие должно и может развиваться как теория этого коммуникативного действия, анамнетически-солидарного в отношении к уменшим, а также в нем переживающейся и раскрывающейся действительности» (Peukert, 1978, 316).
Коммуникативное взаимодействие с невинными жертвами истории возможно в той мере, в какой оно утверждает действительность, которая может спасти других даже в смерти. Данная действительность, которая поэтому «(должна) быть названа “Бог”», в то же время будет определяться как действительность, «которая через это спасение других делает возможной нашу собственную временную, направленную к смерти экзистенцию» (Peukert, 1978, 342). Такое утверждение действительности Божьей остается, следовательно, связанным с практикой всеобъемлюще- (и потому также анамнетически-) солидарного коммуникативного действия, оно есть импликация этой практики и немыслимо без нее. Это практическое утверждение действительности должно освобождать – и освобождает – человека снова и снова для такой практики, через которую он сам может приходить к действительности Божьей. Отсюда раскрывается понимание Лица Иисусова и, тем самым, возникает доступ к христологии. «Через практически поставленное в Его экзистенции утверждение действительности Божьей для других Он вызвал и открыл каждому возможность утверждать Бога также и для себя как спасительно действующего в смерти» (Peukert, 1978, 345).
Основному богословию на основе теории коммуникативного действия удается определить и прояснить предметную область теологии, а также обосновать центральные богословские утверждения. Оно ссылается на опыт действительности, раскрывающийся в практике следования за Иисусом. «Богословие есть именно богословие этого действия; и теория этого действия будет, если она причастна данному опыту, богословием» (Peukert, 1978, 346).
Вслед за Гельмутом Пойкертом Эдмунд Аренс (р. 1953) занимается разработкой концепции «богословской теории действия, функционирующей в области основного богословия и задействуемой в качестве рефлексии христианской церковной практики в контексте наук, общества и целого мира» (Arens, 1992, 163). Нормативным для этой теории является воспоминание об Иисусе Христе и коммуникативной практике как Его Самого, так и первохристианской общины. Как и Пойкерт, Аренс видит центром такой «христопрактики» универсальную солидарность, не только направленную на весь мир, но и включающую в себя мертвых. Эта всеобъемлющая солидарная христианская практика основывается «на пристрастности (Parteilichkeit) Бога, на Лице и деле Иисуса Христа, на Его воскресении, на солидарном приобщении хлебу и вину Его Плоти, на общинности Его Церкви, на чаянии воскресения мертвых и возвращения Христа» (Arens, 1992, 174). В такой христопрактике (Christopraxis) проявляется истина христианского послания и христианской веры, почему и следует стремиться к разъяснению вопросов основного богословия на почве богословской теории действия. Этот подход принесет плоды также с точки зрения теории религии и теологии религии в рассмотрении различных религиозных, философских и богословских подходов, что позволяет Аренсу утверждать: «В коммуникативно-религиозной практике постоянно высказываются определенные смысловые содержания, которым не только присуща вдохновляющая и мотивационно стимулирующая риторическая сила, но которые, более того, открывают и называют действительность, дающую озвучить неотменимые для человеческой жизни и общежития семантические измерения, а именно, относящиеся к воспоминанию и обетованию. Это, во-первых, память о бывшем угнетении народов и классов, обретенной идентичности и перенесенной несправедливости, во-вторых, обетование освобождения от политических, социальных и психических рабства и смерти» (Arens, 2007, 216).
7. Фрэнсис Шюсслер-Фиренца[63 - В немногочисленных русских отсылках – Шусслер-Фиоренца, что фонетически менее точно. Эти отсылки, впрочем, относятся не к Френсису Шюсслер-Фиренце, а к его жене Элизабет – видной представительнице современной католической «феминистской теологии», которая ввела в обиход понятие «кириархат» (точнее, kyriarchy). Оба супруга преподают теологию в Гарварде. – Прим. пер.]: основное богословие критики фундаментализма
Отправную точку опубликованной в США в 1984 г. концепции Фрэнсиса Шюсслер-Фиренцы (немецкий перевод сокращенный) составляют философское понятие о фундаментализме и критическое размежевание с ним в современной философии. Шюсслер-Фиренца (р. 1941) распознает в господствующих вариантах основного богословия очевидные параллели с таким фундаментализмом. Ибо «как трансцендентальные, так и исторические его варианты ищут фундамент для целостной истины христианства, будь то в исторической фактологии или человеческой субъективности» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 269). Против возможности существования непоколебимого, совершенно надежного основания – которое, в первую очередь, предполагает метафора фундамента – выдвигается философская критика фундаментализма. «Фундаментализм подразумевает определенные основные истины, которые или сами себя обосновывают (т. е. не могут быть доказаны ничем другим), или описываются как бесспорные» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 268). Итак, речь идет о предъявлении окончательной оправданности чего-то, о последнем основании. Философская критика фундаментализма, на которую ссылается Шюсслер-Фиренца, рассматривает это стремление как безуспешное, указывая на то, что все высказывания, включая чисто протокольные предложения эмпирических наблюдений[64 - «Протокольные предложения» – пропозиции, составленные таким образом, чтобы содержать в себе свидетельства чистого опыта. Согласно представителям Второго (или Логического) позитивизма, пользовавшимся этим термином, на «протокольных предложениях» может быть построена эмпирическая наука, свободная от обвинений в догматизме. – Прим. пер.], всегда стоят в определенном контексте и, тем самым, условны. Отсюда возникает убеждение, «что дисциплина не потому бывает рациональной, что имеет фундамент, но потому что является самокорректирующей системой, которая подвергает проверке все притязания и соответствующие теоретические предпосылки – пусть и не все одновременно» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 270).
Критика фундаментализма видится Шюсслер-Фиренце неотразимым вызовом по отношению к основному богословию. Ибо, «не существует внешней инстанции, будь то история или человеческий опыт, которая была бы независимой от культурных традиций и социальной интерпретации, составляя независимый фундамент для веры и теологии» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 273). Также ссылка на трансцендентальный опыт (например, у Ранера) должна быть, с этой точки зрения, поставлена под сомнение, поскольку и трансцендентальная инстанция остается, в сущности, «достижимой только внутри неких культурных и интерпретативных рамок» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 273).
Таким образом, основное богословие встает перед вопросом – должно ли оно предъявлять исторические или трансцендентальные основания христианства в качестве критически важных, тем самым навлекая на себя упрек в фундаментализме? Или его обоснование может быть концептуализировано иначе, а именно тем, что оно «в состоянии начать с различных религиозных, культурных и общественных традиций, так как пересекается с различными современными интерпретациями человеческого опыта» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 273)? Шюсслер-Фиренца хочет доказать, насколько это возможно – не впадая при этом в радикальный контекстуализм, – что все утверждения имеют значение и могут претендовать на действительность только в определенном контексте.
Главную задачу основного богословия Шюсслер-Фиренца видит в том, чтобы «раскрыть значение и истину своей религиозной традиции» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 288). Герменевтический процесс интерпретации христианской веры и ее практики, таким образом, ни в коей мере не освобождаются от вопроса об истине и, следовательно, от притязания на выходящую за пределы контекста действительность. Более того, остается верным, что «интерпретировать значение религиозного высказывания – значит также разрабатывать его истинность» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 275). Без возврата к фундаментализму этого можно достичь, по Шюсслер-Фиренце, через установление «рефлексивного равновесия» различных элементов. Все они связаны друг с другом, но ни один из них не составляет неизменного фундамента для других. Это равновесие рефлексивно, поскольку элементы находятся в постоянной взаимосвязи, в которой они могут изменяться и подвергаться пересмотру.
При этом речь идет, прежде всего, о трех элементах. Первый – герменевтическая реконструкция христианской веры и ее практики. Цель этого процесса интерпретации состоит в том, чтобы представить идентичность христианства с учетом его многообразных проявлений, а также обосновать его релевантность для интеллекта и оправданность его притязаний на истину. Второй элемент – ретродуктивные[65 - От лат. retro (назад) и duco (вести), т. е. обращенные в прошлое. – Прим. пер.] способы легитимации (в отличие от дедуктивных и индуктивных умозаключений). Речь идет о суждениях ума (Klugheitsurteile) и практических выводах, раскрывающих жизне-ориентированную силу герменевтически реконструированной христианской традиции с точки зрения современного опыта и реальной жизни. Третий элемент – теории заднего плана, которые отвечают за личный опыт, восприятие и интерпретацию религиозных традиций. «Когда … происходит конфронтация между религиозными убеждениями и современным опытом, следует ставить под сомнение не только это убеждение или этот опыт, но, по возможности, также имеющиеся фоновые теории» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 302).
Создание рефлексивного равновесия между тремя этими элементами представляет собой принципиально незавершенный процесс. Основное богословие, ставящее перед собой такую задачу, тем самым подвергается постоянным перепроверкам и ревизиям в самых своих основаниях. Но так оно и отводит от себя подозрение в фундаментализме.
8. Ганс Вальденфельс: контекстуальное основное богословие
Ганс Вальденфельс (р. 1931) также фокусирует внимание на контекстуальности христианской веры и богословия, о чем он программно заявляет уже в заглавии своей работы по основному богословию, увидевшей свет в 1985 г.[66 - Сочинение Ганса Вальденфельса «Kontextuelle Fundamentaltheologie» не так давно было переведено на английский язык [См. Waldenfels, 2018]. – Прим. свящ. Д. Лушникова.] В отличие от Шюсслер-Фиренцы, Вальденфельс ориентируется не столько на проблемы теории аргументации и философской критики фундаментализма, сколько на изменившееся положение христианства в эпоху Модерна.
Вальденфельс различает несколько аспектов контекстуальности веры и богословия. Во-первых, это вновь пробудившееся осознание, что благовестие веры и ее рефлексия всегда совершаются в конкретных местах и в определенное время, которые и обусловливают их. Это осознание первоначально развилось в Церквах и теологиях так называемого третьего мира и прозвучало как вызов для христианства северных стран, которое должно было заново осознать свою собственную контекстуальность (Kontextualit?t). Во-вторых, положение христианства как религии наряду с другими религиями во все более глобализирующемся мире. Оно утрачивает то господствующее положение, которое имело долгое время, по крайней мере в Европе, и должно научиться существовать в мультирелигиозном контексте. Отсюда, в-третьих, проистекает «разрушение воображаемого мысленного горизонта, который мы, выводя его из симбиоза греческой мысли с иудео-христианским опытом, веками постулировали как общезначимый для всего мира» (Waldenfels, 2000, 19). И здесь христианство видит себя вынужденным жить в контексте Чужого или Иного, способного стать для него запросом о его собственной идентичности, поводом заново осознать ее или по-новому определить. «Если не все вводит в заблуждение, то картезианское отступление к собственному Я оказывается радикально ошибочным путем» (Waldenfels, 2000, 19).
Но, как и у Шюсслер-Фиренцы, у Вальденфельса речь не идет о радикальном контекстуализме. Напротив, для него остается ведущим «правило: чтобы говорить о контексте, нужно сначала сказать о тексте. При этом контекст не производит текста, и текст не подчиняет контекста, даже если контексты определяются новыми текстами» (Waldenfels, 2000, 20). Текст и контекст невыводимы друг из друга, оба они обладают определенной независимостью. Это проявляется также в том, что богословие одновременно может иметь самые разные контексты (и, как правило, имеет). Таким образом, внимание к контексту не должно заслонять собою текст; напротив, ему должно быть приписано первенство в той мере, в какой контекст может быть контекстом лишь в отношении к некоторому тексту. Применительно к христианству это значит, что «“текст”, которым руководствуются иудеи или христиане, исторически дан нам Богом, Который Сам говорит в историях людей; как христиане, мы должны добавить: историях о Боге, ставшем Человеком» (Waldenfels, 2000, 25).
Исходным пунктом для опубликованного в 1975 г. Ойгеном Бизером «Очерка герменевтического основного богословия» стала продолжающаяся детрадиционализация современного общества. Самоочевидность этого процесса лишила традиции легитимирующей силы. Поэтому Бизер (р. 1918) справедливо признает, что и христианство встало здесь перед новым мощным вызовом. «Вопрос о возможной преемственности в условиях разрыва, связанного с повсеместной утратой традиции, на самом деле является кардинальным вопросом веры в наше время» (Biser, 1975, 12).
Этой ситуации основное богословие ранее не отдавало должного, причем как экстринзецистское, строящее свою аргументацию на внешних проявлениях Божественной силы, так и пользующееся имманентным методом. Слабое место того и другого состоит в том, что оба метода ведут лишь к познанию достоверности предметов веры, но при этом остается незаполненной пропасть, отделяющая человека от самой веры (Fuchs, Kreiner, 1983, 401 след.). «Появляющаяся вместе с верой задача ее защиты от скепсиса и сомнения ставится не ею самой, но той инстанцией, которая сама считается очагом обращенных против нее возражений – разумом». Но это значит, что «к собственным факторам веры подходят и обсуждают их в рациональной перспективе, то есть с той точки зрения, с которой можно подойти к ней, но не с той, с которой следовало бы войти в нее». Уверенность, присущая вере, не может быть выражена таким способом. «Искажение пропорций и подмена смысла явились вредными, но и неизбежными последствиями этого» (Biser, 1975, 25). Тогда как экстринзецизм вел только к познанию, опосредованному внешними доказательствами, метод имманентности пытался ввести в игру лишь отдельное, личное вероубеждение, но не сделать веру сообщимой в процессе диалога. «Ни непосредственный, ни опосредованный – вот как может быть описан путь апории» (Biser, 1975, 70). Он мог достигаться в обществе и культуре, на которые наложило свой отпечаток христианство, но после утраты самоочевидности христианской веры в результате разрыва традиции он был утрачен.
То, что из этого вытекает, уже не в состоянии поддерживать прежнее основное богословие. Теперь верно, что «христианство должно здесь и сейчас быть открытым заново, совершенно так, как если бы это был творческий акт настоящего момента, а не наследство, полученное из древнего предания. Ибо действенную помощь людям этого времени может оказать лишь нынешнее, современное» (Biser, 1975, 13). Вера не дает обосновать себя в событии прошлого, которое впоследствии принимается за вероятное. Вера должна быть обоснована собственным настоящим.
Отсюда требуется новая концепция основного богословия как «идущего в ногу с духом времени» (Biser, 1975, 18; Fuchs, Kreiner, 1983, 402–404). Его адресатом уже не может оставаться всеобщий человеческий разум, но им должен стать человек в своей конкретной, исторически определенной ситуации жизни и веры. Только так вера может сделаться понятной в современности.
«Здесь поможет лишь некий, если угодно, “коперниканский” переворот. Если от разума и экзистенциального акта не получается прийти к вере, нужно посмотреть, не ведет ли к цели обратный путь. Это равнозначно, с методологической точки зрения, попытке – на первый взгляд кажущейся парадоксальной – отыскать исходную точку обоснования веры в самой вере» (Biser, 1975, 52).
Но это и есть современная вера с ее опытом, и опыт следует насытить пониманием, чтобы к нему можно было приобщиться. В таком смысле «вера должна быть обоснована герменевтически, то есть по образу акта понимания, который сам себя поддерживает. И это значит: ее собственная достоверность должна быть принята как она сама… помимо лежащих в ее основе доказательств» (Biser, 1975, 55). Таким образом, вера находит свое обоснование в текущей, исторически данной жизненной ситуации. Соответствующий опыт позволяет затем передавать себя далее. При этом утверждения в области основного богословия должны «быть не просто озвучиванием абстрактной аргументации; напротив, сообразно ситуации в человеческом мире их адресата им следует проявлять характер приглашения к диалогу, ибо только так они могут убедить его» (Biser, 1975, 52). Следовательно, речь также идет и о том, чтобы найти подходящий язык для передачи опыта, полученного при помощи веры. «Отсеченная от своей укорененности в истории спасения» (Biser, 1975, 62), вера может быть герменевтически обоснована только в речевом событии диалога. В нем устанавливается также и собственная уверенность веры.
С этой герменевтической точки зрения Бизер осмысляет далее и апологетическую задачу основного богословия. «Разработка препятствий, противостоящих вере в форме трудностей и сомнений», оказывается прежде всего работой с языковыми барьерами и поэтому должна посвятить себя «методам, направленным на их преодоление» (Biser, 1975, 56). Если этого недостаточно, если сохраняются скепсис и неприятие веры в откровение, то уже скептик или критик обязан обосновать свой взгляд (ср. Niemann, 1984, 442). И это обоснование будет принято только тогда, когда критические возражения достигнут, по меньшей мере, такой же степени очевидности, как и сама вера.
Таким образом, по сравнению с традиционным основным богословием, бремя доказательства здесь перевернуто – так как вера есть «акт понимания, который сам себя поддерживает», она не нуждается в сторонних обоснованиях. Поэтому и сторонние возражения не могут поколебать ее собственную достоверность. О столь последовательной герменевтической трансформации основного богословия, как та, что была предпринята Бизером, можно сказать следующее: «Обоснование больше не ориентируется на доказательство истины, но понимается как род внутренней удостоверенности» (Meyer zu Schlochtern, 1976, 349).
4. Петер Кнауэр: экуменическое основное богословие
Петер Кнауэр также развивал герменевтическое основное богословие в своем впервые опубликованном в 1978 г. труде «Вера от слышания» – «первом учебнике по основному богословию, в котором богословский прорыв Второго Ватиканского Собора был систематически отрефлексирован как ясно продуманная концепция и дидактически тщательно опосредован» (Verweyen, 2000a, 21). При этом особый акцент был сделан им на экуменической направленности. Кнауэр обосновывал это тем, что разделение христианства противоречит в сознании верующих его обязанности быть понятным для всех. Однако его основное богословие не стало надконфессиональным. Кнауэр не стремился также найти воображаемую «нейтральную» точку зрения по ту сторону различных исповеданий христианской веры. Его интенция заключалась не в том, чтобы «разные языки той же веры заменить одним единственным языком». Напротив, речь шла о том, чтобы «показать, как разные языки веры должны переводиться друг в друга» (Knauer, 1991, 16). Богословское основание и легитимацию для этого Кнауэр видел в утверждении Второго Ватикана, согласно которому между верующими во Христа есть «истинное общение во Святом Духе» (Lumen gentium, 15). «Это, кажется, говорит об уже существующем единстве между всеми верующими, которое усилиями к пониманию не может быть превзойдено, но с их помощью должно быть недвусмысленно принято» (Knauer, 1991, 17). Следовательно, в экуменическом основном богословии речь идет о том, чтобы «научиться взаимному переводу христианских теологий». Последние «вообще только в том смысле правильны, в каком они могут быть переведены друг в друга и распознаны как выражение согласия в вере. Только в таком переводе обретается богатство (“полнота кафоличности”) своей собственной веры» (Knauer, 1991, 224 след.).
Это экуменическое устремление вполне органично примыкает к герменевтическому концепту основного богословия. Ибо, будучи таковым, оно не может абстрагироваться от веры, как это произошло в основном богословии традиционного типа, где подход был, по Кнауэру, «в сущности неисторическим» в своем игнорировании того факта, «что мы уже давно в действительной жизни столкнулись с христианской вестью» (Knauer, 1984, 204). Поэтому в герменевтическом основном богословии, согласно Кнауэру – и здесь он акцентирует иначе, чем Бизер, – должна идти речь о понимании оснований возвещаемой в этих обстоятельствах веры.
«Что такое, в сущности, вера? Как относятся друг к другу ее содержание и акт, или что следует для понимания содержания веры из того, что она может быть воспринята как истинная только в таком познании, которое принесено Святым Духом? Какого рода уверенность присуща вере, и на чем она основана? Что в человеке представляет собой точку соприкосновения с верой? Какие предпосылки доступны только изнутри самой веры, и какие могут быть распознаны также помимо вероубеждения? … И, наконец, как может вера давать отчет не только перед тем, кто уже верует, но и перед всяким человеком?» (Knauer, 1991, 16).
Отправной пункт для прояснения всех этих вопросов Кнауэр видит в притязании христианской вести быть «словом Божьим». Это предполагает возможность обращения человека непосредственно Богом и, вместе с тем, сообщества Бога и людей. Но это, кажется, противоречит смыслу понятия «Бог», особенно – примысливаемой к Нему непостижимости. Если, с библейской точки зрения, исходить из сотворенности мира, которую Кнауэр считает философски в строгом смысле доказуемой (ср.: Knauer, 1991, 43–56), то Бог является предметом одностороннего и безусловного отношения со стороны мира. Но как возможно сообщество человека с Богом при таком одностороннем и безусловном отношении мира к Богу? Так само понятие о Боге ставит наибольшее препятствие перед возможностью говорить о «слове Божьем». «Кто ссылается на “слово Божье”, кажется, ссылается на что-то совершенно невозможное. Поэтому разрешение вопроса об откровении требует особого внимания» (Knauer, 1991, 87).
Особое внимание и уделяется ему в христианском послании. Ибо тринитарное видение Бога, достигнутое в христианской традиции, дает критерий, позволяющий непротиворечиво говорить о пришествии слова Божьего. Реальное отношение Бога к человеку возможно, ибо оно может быть понято как включение человека в предвечно установленное в Боге отношение Отца к Сыну. Осуществляется оно через принятие Святого Духа, Который в Боге связует Отца и Сына взаимно, а затем опосредует и для человека сообщество с Богом. Это реальное отношение Бога к миру для мира самого по себе, однако, недостижимо, напротив, оно «возможно только как “сверхъестественное”, то есть как наше включение в любовь Божию к Богу, Отца к Сыну» (Knauer, 1991, 195). Итак, сообщество Бога с человеком может быть открыто и даровано только через слово Божье, которое человек способен воспринять лишь в вере. «Вера от слышания», гласит заглавие программного труда Кнауэра по основному богословию, с опорой на апостола Павла (Рим 10:17).
Таким образом, христианская весть способна сама прояснять свое притязание быть Божьим словом. Но этим еще ни в коем случае не доказывается ее истинность и достоверность. Ибо вера способна сделать саму себя истинной и достоверной только в вере, которая означает не что иное, как наполненность Святым Духом. Такая вера сообщает человеку уверенность в том, что он принят Богом в безусловной любви, лишая власти его страх за самого себя – источник всякого бесчеловечия.
Такое понимание веры также позволяет Кнауэру утвердиться в своих экуменических намерениях, осуществляя перевод с языка на язык между христианскими конфессиями. «Для понимания устремлений реформаторской теологии решающим является сознание того, что никакое сотворенное качество не может быть основанием для сообщества с Богом; в то же время, православная теология указывает на то, что сообщество с Богом возможно только во Святом Духе, связующем Лица воедино» (Knauer, 1991, 17, пр. 1).
Но то, что вера может доказать свою истинность и достоверность лишь в вере же, не дает ей иммунитета против непонимания со стороны разума. Правда, нельзя «веру ни выводить из разумных оснований, ни доказывать с их помощью или даже только делать приемлемой» (Knauer, 1991, 395), поскольку речь здесь идет о «сверхъестественной» действительности. Тем не менее, разум имеет важное, неотъемлемое значение для веры. Ему надлежит при помощи разумных аргументов преодолеть возражения, выдвигаемые против веры от имени разума. Ибо «ничто не может быть предметом веры, если противоречит разуму, сохраняющему свою автономию. В этом смысле разуму принадлежит даже преимущество перед верой. Также ради веры, и именно ради нее, нужно следить за тем, чтобы самостоятельность и критическая функция разума были соблюдены» (Knauer, 1991, 396). Разум защищает веру от ее искажения и снижения до суеверия. Истинной вера остается только тогда, когда она сохраняет свободу от суеверия, т. е. от смешения с такими допущениями и содержаниями, которые в принципе являются предметом знания и, следовательно, подлежат суждению разума. Чтобы предохранить себя от подобного губительного смешения, вера нуждается в разуме. Только при его поддержке она может оставаться чистой верой, исполненной Святого Духа.
5. Иоганн Баптист Мец: практическое основное богословие
Основное богословие И. Б. Меца (р. 1928) происходит из 60-х гг. ХХ века, из критического разворота против трансцендентальной теологии его учителя Карла Ранера и аналогичных богословских концепций, таких как экзистенциальная интерпретация библейского послания у евангелического теолога Рудольфа Бультмана. Общим для этих форм теологии, по Мецу, было то, что в них доминировали «категории интимного, приватного, аполитичного» (Metz, 1969, 100). Они представляли христианское послание в укороченном виде. В них «слово благовестия было понято как чистое слово-обращение, слово персонального самосообщения Бога, но не как слово общественно-значимого обетования» (Metz, 1969, 101). Религиозный субъект изолировался от общественно-политической действительности, к которой он, при этом, неотъемлемо принадлежал, и фокусировался всецело на своем спасении. Так, Ранеру Мец ставит в упрек следующее:
«Выработанное в трансцендентальной теологии субъекта понятие об опыте не имеет структуры исторического опыта. Оно погружает общественные противоречия и антагонизмы, которые исторический опыт болезненно проживает и в которых конституирует себя исторический субъект, в беспредметность некоего заранее известного “трансцендентального опыта”, в котором эти противоречия уже примирены недиалектическим способом. Трансцендентальная теология субъек- та поэтому работает как сверхлегитимация религиозного субъекта перед лицом исторического страдания человечества» (Metz, 1992a, 78).
Отсюда Мец усматривает как основную герменевтическую проблему в богословии отношение «между веропониманием и социальной практикой», подразумевая под этим «раскрытие социального потенциала веры» (Metz, 1969, 104). В ходе работы над своей версией основного богословия Мец снова и снова заостряет внимание на его социокультурном окружении. Он, в особенности, считает отличительной чертой последнего объяснение мира в логике эволюции – объяснение, укорененное в Просвещении и западно-буржуазной цивилизации, но также определяющее собой историческую диалектику марксистского материализма.
Это «понимание действительности, которое руководит научно-техническим овладением природой и предоставляет резервы для культа целесообразности, характеризуется понятием времени как пустого, эволюционно растущего в бесконечность континуума, в котором все беспощадно заключено. Оно исключает любое субстанциальное чаяние (treibt jede substantielle Erwartung aus) и производит род фатализма, разъедающего душу современного человека» (Metz, 1992a, 166).
В данной эволюционистской перспективе религия объясняется и классифицируется при помощи метатеории с точки зрения логики развития, так что ее специфическая действительность и динамика больше не принимаются во внимание.
Основное богословие, исходящее из адекватного представления этой ситуации, должно по сути принять апологетическое направление. Оно должно защищать и оправдывать христианство в его аутентичности, работая над его метатеоретическим осмыслением (metatheoretischen Einordnung) и сравнивая с другими верами. При этом оно не должно – «в отличие от времен метафизики, т. е. времен, когда общество само себя определяло посредством религиозной конечной цели» (Metz, 1992a, 21 след.) – перенимать доминирующие сегодня теоретические подходы. Ибо в логике эволюционизма «Бог – как Бог живых и мертвых, Бог, не оставляющий в покое даже прошлое, даже мертвецов – совершенно немыслим. Она есть, в намного большей степени, чем любой выраженный атеизм, который в своем отрицании все еще захвачен отрицаемым, настоящее безпафосное безбожие» (Metz, 1992a, 169).
Но при этом основное богословие ни в коем случае не направлено только «вовне», а обязательно также «внутрь», во внутреннее пространство самого христианства. Ибо лишь здесь оно может обеспечить себе основания для выполнения своей апологетической задачи – оно должно, «чтобы не подвергаться риску спекулятивного регресса в бесконечность, обратиться на субъекта и его практику; должно и само себя понять как практически-обосновывающую дисциплину – практическое основное богословие» (Metz, 1992a, 24). Речь идет о такой практике, в которой значение христианской веры проявляется и доказывает свою действенность. Но с этим, по Мецу, в буржуазном христианстве дело обстоит не лучшим образом. Более того, «исторический кризис христианства, в сущности, есть не кризис его благовестия и содержания веры, но кризис его субъектов и институций, которые слишком удалились от необходимо присущего этому содержанию практического смысла» (Metz, 1992a, 165).
Испытательное поле для такого рода основного богословия лежит «вне предзаданных богословских систем» (Metz, 1992a, 27). Но именно так оно оказывается «исследованием оснований богословия» (Metz, 1992a, 23). Вопрос в нем ставится об идентичности христианства, и не внеисторической, заранее твердо поставленной идентичности, а об оспариваемой в постоянной борьбе, всякий раз устанавливающей и испытующей себя в противоречивых, болезненных опытах и сражениях конкретно-исторической жизни. Мец пытается прояснить это при помощи известной сказки о беге наперегонки между зайцем и ежом, которую он читает «против шерсти», принимая сторону зайца. Возможность, которой обладает заяц, есть «возможность вхождения в поле истории, которое пересекается только в беге, в состязании, в полете (и, как всегда, именно тексты Павловой традиции призывают христиан к историко-эсхатологической жизни). Эта возможность означает, вместе с тем, для зайца попытку критически разоблачить идеалистическое обеспечение поставленной под угрозу идентичности христианства, отвлеченное от идентифицирующей силы практики (бега), – так сказать, богословскую уловку ежа, который обеспечивает себе идентичность, или победу, без опыта бега (т. е. без опыта опасности и риска неудачи)» (Metz, 1992a, 159).
Поэтому основное богословие должно постоянно давать себя перебивать и смущать актуальной христианской практике веры. Мера, которой должна испытываться сама эта практика, есть memoria passionis, mortis et resurrectionis Jesu Christi[60 - Память страстей, смерти и воскресения Иисуса Христа (лат.). – Прим. пер.]. Мец смотрит поэтому на «рассказ» и «воспоминание» как на «когнитивное соответствие» христианской практике (Metz, 1992a, 158). Таким образом, история Иисуса становится снова и снова современной – как камень преткновения и призыв к преемственности. Одновременно христианская практика предохраняется ею от того, чтобы производить себя из господствующей общественной тотальности или поступать на службу к ней. Более того, memoria passionis, mortis et resurrectionis Jesu Christi оказывается опасным воспоминанием, поскольку обращает взор на заброшенных, на удел стесненных, страждущих и угнетенных.
Практическое основное богословие – подразумевается практика, которая ориентируется на следование за Иисусом – стремится «в нарративном и аргументативном образе свободного воспоминания, как определенном образе надежды, отвечать на обстоятельства нового времени» (Metz, 1992a, 191). Оно позволяет охарактеризовать себя, в разграничении с трансцендентальным богословием субъекта, как богословие субъекта, ориентированное на следование Христу. При этом оно предоставляет «опцию для возможности солидарного субъектного существования всех людей», понимая себя как отчет о «солидарном уповании на Бога Иисуса как Бога живых и мертвых, Который всех призывает к субъектности пред лицем Своим» (Metz, 1992a, 84, 86). Такое основное богословие должно быть – или становиться снова и снова – восприимчивым к страданиям и вопросам теодицеи, в том числе предъявляя иски к Богу и за еще невыполненные обетования. Но именно так оно противостоит логике эволюционной мысли, подчиняющей все пустому, эволюционно растущему в бесконечность континууму времени, для которой, «в конечном итоге, все равносильно смерти» (Metz, 1992a, 169). Напротив, Бог есть, «по-библейски, не другой момент времени, но его конец, ограничение, разрыв – и потому его возможность» (Metz, 1992a, 169). Только в подобном горизонте ограниченного, заключенного в установленный срок времени возникает надежда на нечто окончательное – избавление и спасение, оправдание и примирение, возвращение к самому себе, то есть нечто такое, чего нельзя превзойти продолжающемуся в бесконечность, до самого погружения в забвение, течению времени. Поэтому и «речь о “последнем” и “окончательном” слове обетования Божья человечеству в Иисусе Христе… сама есть некое высказывание о времени. Она делает необходимой логику ограниченного времени», которое, как таковое, остается необгоняемым и обладает «повествовательно-памятной глубинной структурой» (Metz, 1997, 162). Именно это и явля- ется необходимым условием Церкви как повествовательно- памятного сообщества, а также практики христианской веры, насколько то и другое имеет свою центральную точку отсчета в memoria Jesu Christi[61 - Память Иисуса Христа (лат.). – Прим. пер.].
6. Гельмут Пойкерт: основное богословие теории действия
В своем «Анализе оснований и статуса богословского теоретического образования» Гельмут Пойкерт (р. 1934) подхватывает тезис своего учителя Меца об анамнетической[62 - Т. е. связанный с воспоминанием (греч. anamnesis). – Прим. пер.] структуре христианской веры и теологии, когда задается вопросом: возможно ли вообще рискованное и освобождающее воспоминание, когда отношение к собственной истории – как показывает на парадигматическом уровне психоанализ – может обезображиваться искаженной памятью и структурами нарушенной коммуникации? Чтобы преодолеть подозрение, Пойкерт обращается к богословской теории коммуникации, способной отследить подобные искажения и помехи. Она должна помочь прояснить, «обладают ли богословские высказывания и речевые коммуникативные практики, вырастающие из христианской традиции, обновляющей и критической силой для того, чтобы прорвать, разоблачить несправедливость и насилие в интерактивных взаимоотношениях (то, что по-библейски называется “миром”), исправляя и врачуя их как языковые действия» (Peukert, 1978, 70). При этом Пойкерт имеет в виду научно-теоретическое обоснование практического основного богословия, еще отсутствовавшее у Меца. Сам он понимает это предприятие как «основное богословие», которому приписывает две задачи. Это, «с одной стороны, научная теория богословия, раскрывающая диапазон предметов и проясняющая возможность его теоретического постижения. С другой стороны, это основное богословие в том смысле, что в нем вырабатываются основные богословские утверждения, которые должны развиваться в теологии в целом и выполняют герменевтическую функцию для целого» (Peukert, 1978, 18).
Пойкерт начинает с реконструкции научно-теоретической дискуссии ХХ века, в начале которой стоит обсуждение возможности теологии как науки у раннего Витгенштейна и в Венском кружке. В ходе этих научно-теоретических дебатов как основа научной рациональности все больше и больше выкристаллизовывалось коммуникативное действие, так что теоретические вопросы науки в конечном счете сводились к теории коммуникативного действия. Пойкерт видит в ней
… «предельный намеченный идеал …, достижимый в рамках Нового времени. Это основанное на коммуникативной практике предвосхищение человека, который в противопоставленности природе и во все далее заходящей рефлексии относительно своего положения и своих возможностей постигает, что сам он в своем свободном историческом движении постоянно создает горизонт, в пределах которого должны быть решены все вопросы … Свобода в универсальной, исторически понимаемой солидарности, кажется, очерчивает предельную границу мыслимого» (Peukert, 1978, 300).
Теория коммуникативного действия должна, таким образом, вырабатывать нормативный фундамент для практической деятельности, а также для науки.
Однако, согласно Пойкерту, в центр этой теории, как только она приступает к вопросу об устроении единого солидарного человечества, прорывается апория. Ибо единое солидарное человечество должно было бы включать в себя всех людей, равно как и тех, в частности, кто стал жертвой истории. Здесь требуется анамнетическая солидарность, которая появляется только как парадокс. Так, в теории коммуникативного действия, разработанной Юргеном Хабермасом, эта апория остается без ответа. Пойкерт выдвигает в ее отношении два тезиса:
«Я хочу сказать, во-первых, что в иудео-христианской традиции речь идет о такой действительности, которая переживается в опыте оснований и границ коммуникативного действия, и о таком роде коммуникативного действия, которое возможно ввиду этого опыта. Во-вторых, я хочу сказать, что основное богословие должно и может развиваться как теория этого коммуникативного действия, анамнетически-солидарного в отношении к уменшим, а также в нем переживающейся и раскрывающейся действительности» (Peukert, 1978, 316).
Коммуникативное взаимодействие с невинными жертвами истории возможно в той мере, в какой оно утверждает действительность, которая может спасти других даже в смерти. Данная действительность, которая поэтому «(должна) быть названа “Бог”», в то же время будет определяться как действительность, «которая через это спасение других делает возможной нашу собственную временную, направленную к смерти экзистенцию» (Peukert, 1978, 342). Такое утверждение действительности Божьей остается, следовательно, связанным с практикой всеобъемлюще- (и потому также анамнетически-) солидарного коммуникативного действия, оно есть импликация этой практики и немыслимо без нее. Это практическое утверждение действительности должно освобождать – и освобождает – человека снова и снова для такой практики, через которую он сам может приходить к действительности Божьей. Отсюда раскрывается понимание Лица Иисусова и, тем самым, возникает доступ к христологии. «Через практически поставленное в Его экзистенции утверждение действительности Божьей для других Он вызвал и открыл каждому возможность утверждать Бога также и для себя как спасительно действующего в смерти» (Peukert, 1978, 345).
Основному богословию на основе теории коммуникативного действия удается определить и прояснить предметную область теологии, а также обосновать центральные богословские утверждения. Оно ссылается на опыт действительности, раскрывающийся в практике следования за Иисусом. «Богословие есть именно богословие этого действия; и теория этого действия будет, если она причастна данному опыту, богословием» (Peukert, 1978, 346).
Вслед за Гельмутом Пойкертом Эдмунд Аренс (р. 1953) занимается разработкой концепции «богословской теории действия, функционирующей в области основного богословия и задействуемой в качестве рефлексии христианской церковной практики в контексте наук, общества и целого мира» (Arens, 1992, 163). Нормативным для этой теории является воспоминание об Иисусе Христе и коммуникативной практике как Его Самого, так и первохристианской общины. Как и Пойкерт, Аренс видит центром такой «христопрактики» универсальную солидарность, не только направленную на весь мир, но и включающую в себя мертвых. Эта всеобъемлющая солидарная христианская практика основывается «на пристрастности (Parteilichkeit) Бога, на Лице и деле Иисуса Христа, на Его воскресении, на солидарном приобщении хлебу и вину Его Плоти, на общинности Его Церкви, на чаянии воскресения мертвых и возвращения Христа» (Arens, 1992, 174). В такой христопрактике (Christopraxis) проявляется истина христианского послания и христианской веры, почему и следует стремиться к разъяснению вопросов основного богословия на почве богословской теории действия. Этот подход принесет плоды также с точки зрения теории религии и теологии религии в рассмотрении различных религиозных, философских и богословских подходов, что позволяет Аренсу утверждать: «В коммуникативно-религиозной практике постоянно высказываются определенные смысловые содержания, которым не только присуща вдохновляющая и мотивационно стимулирующая риторическая сила, но которые, более того, открывают и называют действительность, дающую озвучить неотменимые для человеческой жизни и общежития семантические измерения, а именно, относящиеся к воспоминанию и обетованию. Это, во-первых, память о бывшем угнетении народов и классов, обретенной идентичности и перенесенной несправедливости, во-вторых, обетование освобождения от политических, социальных и психических рабства и смерти» (Arens, 2007, 216).
7. Фрэнсис Шюсслер-Фиренца[63 - В немногочисленных русских отсылках – Шусслер-Фиоренца, что фонетически менее точно. Эти отсылки, впрочем, относятся не к Френсису Шюсслер-Фиренце, а к его жене Элизабет – видной представительнице современной католической «феминистской теологии», которая ввела в обиход понятие «кириархат» (точнее, kyriarchy). Оба супруга преподают теологию в Гарварде. – Прим. пер.]: основное богословие критики фундаментализма
Отправную точку опубликованной в США в 1984 г. концепции Фрэнсиса Шюсслер-Фиренцы (немецкий перевод сокращенный) составляют философское понятие о фундаментализме и критическое размежевание с ним в современной философии. Шюсслер-Фиренца (р. 1941) распознает в господствующих вариантах основного богословия очевидные параллели с таким фундаментализмом. Ибо «как трансцендентальные, так и исторические его варианты ищут фундамент для целостной истины христианства, будь то в исторической фактологии или человеческой субъективности» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 269). Против возможности существования непоколебимого, совершенно надежного основания – которое, в первую очередь, предполагает метафора фундамента – выдвигается философская критика фундаментализма. «Фундаментализм подразумевает определенные основные истины, которые или сами себя обосновывают (т. е. не могут быть доказаны ничем другим), или описываются как бесспорные» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 268). Итак, речь идет о предъявлении окончательной оправданности чего-то, о последнем основании. Философская критика фундаментализма, на которую ссылается Шюсслер-Фиренца, рассматривает это стремление как безуспешное, указывая на то, что все высказывания, включая чисто протокольные предложения эмпирических наблюдений[64 - «Протокольные предложения» – пропозиции, составленные таким образом, чтобы содержать в себе свидетельства чистого опыта. Согласно представителям Второго (или Логического) позитивизма, пользовавшимся этим термином, на «протокольных предложениях» может быть построена эмпирическая наука, свободная от обвинений в догматизме. – Прим. пер.], всегда стоят в определенном контексте и, тем самым, условны. Отсюда возникает убеждение, «что дисциплина не потому бывает рациональной, что имеет фундамент, но потому что является самокорректирующей системой, которая подвергает проверке все притязания и соответствующие теоретические предпосылки – пусть и не все одновременно» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 270).
Критика фундаментализма видится Шюсслер-Фиренце неотразимым вызовом по отношению к основному богословию. Ибо, «не существует внешней инстанции, будь то история или человеческий опыт, которая была бы независимой от культурных традиций и социальной интерпретации, составляя независимый фундамент для веры и теологии» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 273). Также ссылка на трансцендентальный опыт (например, у Ранера) должна быть, с этой точки зрения, поставлена под сомнение, поскольку и трансцендентальная инстанция остается, в сущности, «достижимой только внутри неких культурных и интерпретативных рамок» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 273).
Таким образом, основное богословие встает перед вопросом – должно ли оно предъявлять исторические или трансцендентальные основания христианства в качестве критически важных, тем самым навлекая на себя упрек в фундаментализме? Или его обоснование может быть концептуализировано иначе, а именно тем, что оно «в состоянии начать с различных религиозных, культурных и общественных традиций, так как пересекается с различными современными интерпретациями человеческого опыта» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 273)? Шюсслер-Фиренца хочет доказать, насколько это возможно – не впадая при этом в радикальный контекстуализм, – что все утверждения имеют значение и могут претендовать на действительность только в определенном контексте.
Главную задачу основного богословия Шюсслер-Фиренца видит в том, чтобы «раскрыть значение и истину своей религиозной традиции» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 288). Герменевтический процесс интерпретации христианской веры и ее практики, таким образом, ни в коей мере не освобождаются от вопроса об истине и, следовательно, от притязания на выходящую за пределы контекста действительность. Более того, остается верным, что «интерпретировать значение религиозного высказывания – значит также разрабатывать его истинность» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 275). Без возврата к фундаментализму этого можно достичь, по Шюсслер-Фиренце, через установление «рефлексивного равновесия» различных элементов. Все они связаны друг с другом, но ни один из них не составляет неизменного фундамента для других. Это равновесие рефлексивно, поскольку элементы находятся в постоянной взаимосвязи, в которой они могут изменяться и подвергаться пересмотру.
При этом речь идет, прежде всего, о трех элементах. Первый – герменевтическая реконструкция христианской веры и ее практики. Цель этого процесса интерпретации состоит в том, чтобы представить идентичность христианства с учетом его многообразных проявлений, а также обосновать его релевантность для интеллекта и оправданность его притязаний на истину. Второй элемент – ретродуктивные[65 - От лат. retro (назад) и duco (вести), т. е. обращенные в прошлое. – Прим. пер.] способы легитимации (в отличие от дедуктивных и индуктивных умозаключений). Речь идет о суждениях ума (Klugheitsurteile) и практических выводах, раскрывающих жизне-ориентированную силу герменевтически реконструированной христианской традиции с точки зрения современного опыта и реальной жизни. Третий элемент – теории заднего плана, которые отвечают за личный опыт, восприятие и интерпретацию религиозных традиций. «Когда … происходит конфронтация между религиозными убеждениями и современным опытом, следует ставить под сомнение не только это убеждение или этот опыт, но, по возможности, также имеющиеся фоновые теории» (Sch?ssler-Fiorenza, 1992, 302).
Создание рефлексивного равновесия между тремя этими элементами представляет собой принципиально незавершенный процесс. Основное богословие, ставящее перед собой такую задачу, тем самым подвергается постоянным перепроверкам и ревизиям в самых своих основаниях. Но так оно и отводит от себя подозрение в фундаментализме.
8. Ганс Вальденфельс: контекстуальное основное богословие
Ганс Вальденфельс (р. 1931) также фокусирует внимание на контекстуальности христианской веры и богословия, о чем он программно заявляет уже в заглавии своей работы по основному богословию, увидевшей свет в 1985 г.[66 - Сочинение Ганса Вальденфельса «Kontextuelle Fundamentaltheologie» не так давно было переведено на английский язык [См. Waldenfels, 2018]. – Прим. свящ. Д. Лушникова.] В отличие от Шюсслер-Фиренцы, Вальденфельс ориентируется не столько на проблемы теории аргументации и философской критики фундаментализма, сколько на изменившееся положение христианства в эпоху Модерна.
Вальденфельс различает несколько аспектов контекстуальности веры и богословия. Во-первых, это вновь пробудившееся осознание, что благовестие веры и ее рефлексия всегда совершаются в конкретных местах и в определенное время, которые и обусловливают их. Это осознание первоначально развилось в Церквах и теологиях так называемого третьего мира и прозвучало как вызов для христианства северных стран, которое должно было заново осознать свою собственную контекстуальность (Kontextualit?t). Во-вторых, положение христианства как религии наряду с другими религиями во все более глобализирующемся мире. Оно утрачивает то господствующее положение, которое имело долгое время, по крайней мере в Европе, и должно научиться существовать в мультирелигиозном контексте. Отсюда, в-третьих, проистекает «разрушение воображаемого мысленного горизонта, который мы, выводя его из симбиоза греческой мысли с иудео-христианским опытом, веками постулировали как общезначимый для всего мира» (Waldenfels, 2000, 19). И здесь христианство видит себя вынужденным жить в контексте Чужого или Иного, способного стать для него запросом о его собственной идентичности, поводом заново осознать ее или по-новому определить. «Если не все вводит в заблуждение, то картезианское отступление к собственному Я оказывается радикально ошибочным путем» (Waldenfels, 2000, 19).
Но, как и у Шюсслер-Фиренцы, у Вальденфельса речь не идет о радикальном контекстуализме. Напротив, для него остается ведущим «правило: чтобы говорить о контексте, нужно сначала сказать о тексте. При этом контекст не производит текста, и текст не подчиняет контекста, даже если контексты определяются новыми текстами» (Waldenfels, 2000, 20). Текст и контекст невыводимы друг из друга, оба они обладают определенной независимостью. Это проявляется также в том, что богословие одновременно может иметь самые разные контексты (и, как правило, имеет). Таким образом, внимание к контексту не должно заслонять собою текст; напротив, ему должно быть приписано первенство в той мере, в какой контекст может быть контекстом лишь в отношении к некоторому тексту. Применительно к христианству это значит, что «“текст”, которым руководствуются иудеи или христиане, исторически дан нам Богом, Который Сам говорит в историях людей; как христиане, мы должны добавить: историях о Боге, ставшем Человеком» (Waldenfels, 2000, 25).