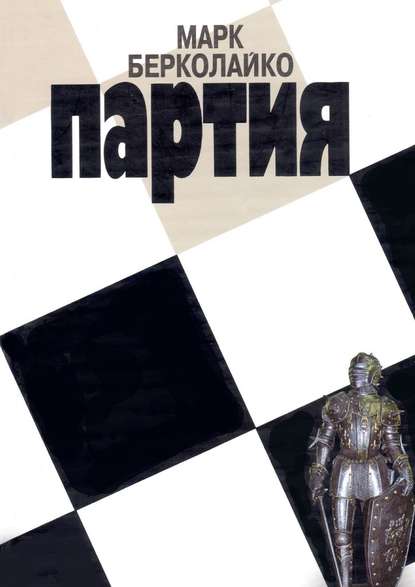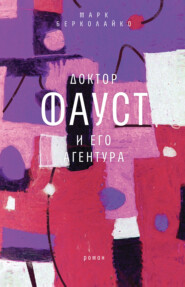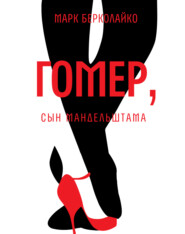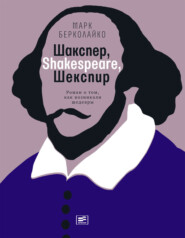По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Партия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, нет, сенатор, я никогда не смогу в это поверить! Ведь все они – достойнейшие, клянусь богами, люди! – громко, чтобы услышали, воскликнул, наконец, Цезарь и, отстранив Лену, направился к своему креслу, сделанному по настоянию подобострастного сената из чистого золота.
«Достойнейшие люди» разом облегченно выдохнули – так, что по курии даже пронесся легкий ветерок, пристроились за диктатором изготовившимся эскортом, а Луций Киллий Кимвр затараторил о страдающем ревматизмом, подагрой, депрессией и поносами, сосланном брате.
Так дошли до кресла. Цезарь уселся, Кимвр и большая группа заговорщиков остались перед ним, а несколько человек расположились за креслом. Сбоку, поближе к нему, Гай Сервилий Каска. С другой стороны – его брат, Публий.
Кимвр все расписывал мучения несчастного изгнанника, приближался к диктатору – и встал, наконец, так, что живот его оказался на расстоянии доброго пинка.
Цезарь захотел еще немного выждать, однако понял, что это желание – не что иное, как нерешительность.
А поняв, рассердился на себя.
А рассердившись, сказал резко:
– Кимвр, я никогда не просил снисхождения для себя, так зачем мне быть снисходительным к таким, как твой брат?! Ступай на место, пора начинать заседание!
И тут Кимвр вцепился в край тоги диктатора и сильно потянул. «Обнажает шею! – понял Цезарь. – Все, как я предвидел…»
И вскричал:
– Это уже насилие!
Движенье слева… Каска!.. Началось… Отпрянуть… Отлично… Кинжал лишь царапнул шею.
– Каска, негодяй, что ты делаешь?!
Проклятье! На мгновение запоздал с рывком в противоположную сторону. И кинжал Публия Каски ударил над правой ключицей. Глубоко. Проворонил. Собраться. И!..
В невероятном сочленении разнонаправленных движений:
Выпад грифелем. Попал: Публий Каска вскрикнул и отпрянул.
Пинок в живот Кимвра. Попал: тот охнул и сломался надвое.
Торс! Есть! Мышцы застонали.
Но! в воздухе; высвободил обе руки: и!
И встал в двух шагах от кресла! А те, кто стоял сзади, были вынуждены потратить секунды, чтобы, толкаясь, обежать массивное сооружение. Благие секунды безопасности сзади! Вперед! Выпад. Попал. Еще. Попал. Отступили. Слабаки! Взяли в круг. Выставили перед собой мечи и кинжалы. Звать своих? Нет. Еще чуть-чуть. Вертеться. «Ноги, не подведите!» – «Пляшем! Никогда еще так не плясали!» Вертеться. Держать на дистанции. Грифелем в вытянутой руке. Взглядом. Голосом.
– Мерзавцы! Я возвеличил вас, предатели! Неблагодарные твари!
Ага! Замерли! Слабаки, ничтожества. Сукины дети. Пусть даже. Одна из сук. Понесла от него же.
А вот и он! Марк Брут! Смотри в глаза. Сынок. Щенок.
И во взгляде его Цезарь увидел мольбу: «Не хочу убивать! Позови на помощь!»
И готовность – если позовет – разметать всех. И защитить. И оградить…
А потом зализать его раны дрожащим от счастья, мокрым, теплым языком.
Теплая кровь бежит из раны. Слабею. Позвать на помощь, но не этого щенка. Своих. Преданных. Они готовы. Ждут команды.
И, не отрывая взгляд от смятенных глаз Брута, набрав в грудь воздуха столько, что показалось – пережалась рана, и кровь перестала бежать, Цезарь закричал…
Но не «К оружию!», как намеревался – а совсем другое:
– И ты, Брут?! – Потом с издевкой. Еще громче. Словно была нужда переорать рев кошмарной драчки. – Д-и-и-т-я мое!
Ударил. В пах. В пах?! Патриций – патриция, которого считает отцом? Смешно… Слабо ударил – меч проник неглубоко, но ноги дрогнули. Держаться. Слабо ударил. Слабо. Слабак. Смешно… Почему смешно?! Ведь не время! О, боги, боги, не надо сейчас хохотать. Пожалуйста!
Но, хохот в ушах стал громким невыносимо, в глазах потемнело… Упал.
И последним усилием оттянул тогу до пят, чтобы не видны были судорожно пляшущие ноги.
И за-предельным, за-последним усилием накрыл лицо, чтобы невидимо для всех успеть – пока не истечет кровью – всласть посмеяться вместе с богами.
Но над чем? Боги, над чем?..
Толпились вокруг лежащего диктатора. Мешали друг другу. Ранили друг друга.
Наносили удар за ударом – и тело отвечало судорогами, почти не слабеющими.
Наконец, прекратилось. Отметился каждый.
Остальные сенаторы разбежались. И преданные, так и не дождавшись команды — тоже. И Марк Антоний. И Балъб.
Убегая, силились понять: как может быть, что Цезарь, победоносный Цезарь — вдруг застыл окровавленной кучей на полу курии Помпея Великого, у ног статуи Помпея Великого?
Которого громил так волшебно легко.
Словно издеваясь над вполне заслуженным титулом «Великий».
Словно утверждая, что нет в подлунии ничего подлинно великого.
Кроме разве что него самого — лысого развратника, неизменного везунчика…
А Яхве сделал сильнейший ход. И вскрыл вертикаль «с». И получил позиционный перевес.
Потому что на вопрос: «Пойдет ли Цезарь в сенат?»
Он ответил:
– Да.
А я возразил:
– Нет.