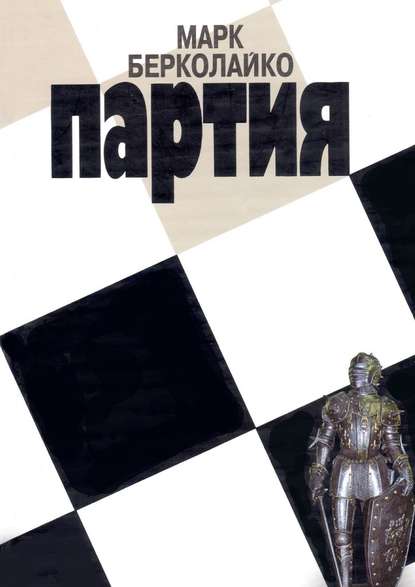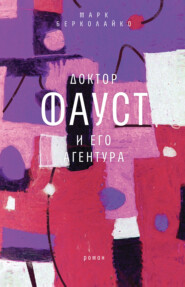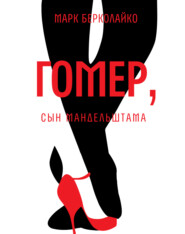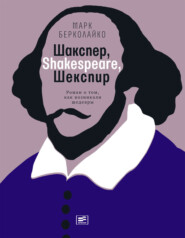По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Партия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ничего, орите, вы мне не мешаете. Все равно пора привыкать хорошо думать в шумном турнирном зале. Многие гроссмейстеры, анализируя позиции, специально включают на полную громкость и радио, и телевизор.
– Мунька, ты гениальный человек! И очень хороший. А где мама?
– В большой комнате. Стоит у окна.
Действительно, стояла. Наверняка видела, как он несся по улице. И как возвращался с цветами и тортом. Вроде бы за ними и убежал.
Подошел, стал рядом. Как тогда в санатории, на балконе. Только теперь руки заняты. Вообще-то желательно торт в холодильник, а цветы – в вазу. С другой стороны, с ними надежнее. Как будто держишь индульгенцию, подписанную самим папой.
– Все, что я тебе наговорил, дели на тысячу.
– Все, что я вам наговорила, делите на две.
Стояли и смотрели вдаль. Только не на рассвет, а на московский поезд, увозивший счастливцев, которые завтра утром рассыпятся по чартерам – в Турцию, в Хорватию, в Испанию. Эх, счастливцы, счастливцы! Не надо вам готовиться к уборочной, боронить поля под озимые, выполнять контракт на поставку удобрений в Иорданию, ломать голову, как возвращать в декабре кредиты.
Поезд уползал медленно, чуть подрагивая. Как веревочка, которую чья-то забавляющаяся рука водит перед носом навострившегося кота.
– Я не за себя боюсь. Я боюсь, что они вас раздавят.
– Кто они?
– Все. Все, кто на вашем месте воровал бы и делился. Для кого эти ваши мечты о собственном Бородинском поле – как серпом по яйцам. Для кого ваше внутреннее благородство – запах чужака.
– Машуня, я умею драться. И вообще, не каркай.
– Не буду…
Сначала над идеей Бруткевича смеялись. Потом, когда с помощью Толоконина удалось убедить банки дать крупные кредиты – без обеспечения, под проект, – стали говорить, что деньги будут разворованы сразу, бесхитростно и нагло. Но в область пошла техника, рылись траншеи – и родилась новая версия: все закупается и строится по головокружительным ценам, с сумасшедшими «откатами». Тем временем заброшенные фермы энергично очищались, а чудо-черви заработали как вечный двигатель, пожирая свозимые со всей области залежи и выделяя готовую к употреблению органику. Появились контракты на поставку в Иорданию и Кувейт – и потерявшая сон оппозиция забросала прокуратуру сигналами о продажах народного добра по заниженным ценам, но опять же с сумасшедшими «откатами».
Проверки следовали одна за другой, в офисе «Недогонежпроекта» выделили для контролеров специальную комнату, и она никогда не пустовала. Как поговаривал один из замов Георгия, бывший физик-экспериментатор, сангвиник Абрамыч: «Одна орда сменить другую / Спешит, дав отдых полчаса».
Но все это Бруткевича не волновало. «Откатов» не было, на жизнь хватало и без них – выручали заработанные когда-то на выборах деньги. А проект, с неизбежными скрипами, но шел. Однако ж свалилась на голову другая забота. Главы самых гиблых районов зачастили к Толоконину с просьбами: а почему бы Бруткевичу, возрождателю и воскресителю, не возродить их заброшенные земли и не подкормить ревущий от хронической голодухи скот? Хотя бы для того, чтобы надежно обеспечить червей исходным сырьем? Ведь вывозимый с полуразрушенных ферм, окаменевший навоз, если по правде, говорили они, районный. Если по справедливости, толковали они, то почти полезное, почти ископаемое. И раз Бруткевич научился на нем делать деньги, то и районам должно что-то перепадать.
Георгий сопротивлялся, но твердое толоконинское «Надо!» положило дискуссиям конец.
Еще и еще кредиты, закупки техники, семян, горючего, средств защиты растений, проект разрастался, и одной только зарплаты требовалось под десять миллионов в месяц.
Черви такой денежный поток создавать не успевали, финансовые прорехи множились скорее, чем штопались, но уже на десятках тысяч гектаров рос элитный пивной ячмень и подсолнечник, и еще десятки тысяч готовились под озимые. Взлелеянная земля, пропитанная удобрениями, должна была дать славный урожай. Всего только две успешные уборочные, всего только год – и появилась бы вполне осязаемая прибыль.
В общем, как комментировал замученный наскоками правоохранителей, заметно помрачневший сангвиник Абрамыч: «Мы их просим, дайте нам время, а они отвечают: «Время дать не можем, но срок дадим – уж будьте уверены!»
И вот теперь Бруткевич мотался по области, проверяя, все ли готово к уборке. Лето складывалось паскудно дождливым, на севере области были убраны еще не все озимые, техники традиционно не хватало. Георгий раньше и не подозревал в себе такой твердости: его просили, ему угрожали, предлагали любые деньги, но ни один новехонький комбайн «Недогонежпроекта» ни на одно «чужое» поле не вышел. Все было сосредоточено в южных районах, все жило одной надеждой: ячмень, не менее трех тонн с гектара, двигаться с юга на север, сроки минимальные (двадцать дней) в любое окно между дождями. Плевать на влажность – на элеваторах высушат. Дорого? – пусть. Но в конце августа должно быть не менее сорока тысяч тонн – ста двадцати миллионов рублей. Двадцатью заткнуть самые опасные пробоины, сотней хоть чуть-чуть ослабить кредитную удавку. Потом подоспеет подсолнечник – и тогда… Ах, вот тогда можно будет хоть на секундочку увидеть «небо в алмазах».
…Пятница была на исходе, машина мчалась в Недогонеж; Георгий поддался на уговоры спутников, Абрамыча и Андрея Сергеевича, главного агронома проекта, и решил провести два дня в городе; а на рассвете в понедельник – на самые «юга» области, где уборка начнется в воскресенье.
На самом-то деле Георгий и не сильно сопротивлялся уговорам. По Машке соскучился невыносимо, да и ощущать в воскресенье внезапные замирания сердца: «Как там уборка?», и видеть, как краешек этой тревоги тут же затеняет лица семейства (черт возьми, уже семейства!) – была в этом какая-то садо-мазо-сладость.
Хотя почему «садо-мазо»? Просто естественное стремление мужчины побеждать, зная, что в тылу надеются, тревожатся и любят.
Навстречу машине спешили облака, уже излившие влагу на севере. Поигрывая отблесками заката, они старались выглядеть дружелюбными, но черные пятна, пометившие их затейливую кучеватость, не предвещали ничего хорошего.
Настроение от этого портилось, но у Бруткевича сызмальства был безотказный способ обрести равновесие: поспать или хотя бы подремать. И лишь только навалилась дремота, недобрые облака сменились красками Того Самого Рассвета, только Машка не плакала, а убаюкивала и шептала, что все обойдется… Под шорох шин, под мурлыканье двигателя, под Машкин шепот разноцветно-слоистый торт рассвета выглядел особенно празднично и дремалось особенно сладко.
Но все испортило внезапно загудевшее возле уха ворчание водителя Ивана.
Хоть фамилия у него была грозно-казацкая, Есаулов, производил он впечатление не вояки, а попрошайки. Даже и сутуловатость его была трусоватой, словно ему дали чуть передохнуть между порциями ударов по шишковатой голове и костлявым плечам. Однако ж при этом он умудрялся взглядывать на окружающих людишек с таким насмешливым презрением, будто еще вчера владел родовыми замками с баронским гербом на фронтонах.
– Опять вертаемся, – забубнил он, – с пустым багажником. Мяса нигде не взяли; Викулин две головы сыру хотел положить, так вы не велели. От предприятия что, убудет, если парного мяса дадут? …забили бы теленка… Животновод наш главный всегда вертается с полным багажником. Женька, его водитель, от мяса уже распух. И кому вы свою честность доказываете?
– Заткнись! – посоветовал Бруткевич, с трудом удерживая остатки дремоты.
– Заткнусь, – горестно согласился Есаулов. – Скоро мочи не будет говорить. И ноги болят. Раньше, когда начальника рыбводхоза возил, спрашивали: «Вань, тебе какой рыбки положить?»
– Жалко, спился мужик, – закончил Абрамыч не раз слышанное повествование, – и помер.
– Спился, – согласился Иван, гордясь величием начальника рыбводхоза, как собственным баронским гербом, – помер. Но вертались всегда с полным…
– Заткнись! – рявкнул Бруткевич, окончательно вернувшись из мира, где была Машка, в мир, где есть Есаулов. Попищал кнопками мобильника и обратился к главному животноводу «Недогонежпроекта»:
– Привет, Виктор Алексеевич! Напомните, пожалуйста, первый основной принцип бизнеса… Правильно, «Не бойся больших расходов, бойся маленьких доходов». А второй?.. Подзабыли? С удовольствием напомню. «Уж если воровать, то с прибыли, а не убытков». Где же это вы у нас большую прибыль обнаружили?.. Что я имею в виду? Да вот, дошли слухи, что из поездок с парной телятиной возвращаетесь… Только один раз? А что ж не поделились?.. Вы во второй раз половину отнесите в багажник к Ивану, и сразу ко мне в кабинет с заявлением об уходе. Договорились?.. Удачи!
– Георгий Георгиевич! – встрепенулся главный агроном. – Вон наше поле под озимые готовится. А за ним двести пятьдесят га ячменя. Посмотрим?
– Конечно! Стоп, Иван! И если еще раз услышу про заполнение багажника – в пинки погоню. Сразу и больно.
– В пинки… – ворчал Есаулов, пока пассажиры, кряхтя, разминали онемевшие ноги. – Геофизики… ну и физичили бы себе дальше, из ума сшитые. «Воровать с прибыли», – передразнил он Бруткевича, уже ушедшего от машины метров на пять. – С прибыли большое начальство уворует. А мы ее пока дождемся, с голоду помрем!
И поплелся за Бруткевичем, приученный покойным рыбводхозовцем держать дистанцию, но следовать по пятам.
По полю быстро, но вальяжно перемещался трактор, за которым тянулся шлейф из необычно широкой бороны и нескольких культиваторов. И у Георгия потеплело на сердце, когда он вспомнил, что трактор, белорусский аналог «Кировца», не уступающий тому в мощи и маневренности, обошелся гораздо дешевле; что борона современнейшая, французская, тоже выторгована с приличной скидкой; что обращается она с черноземом бережно, как будто врачуя его лазером, а не кромсая, как традиционный плуг, мясницким ножом.
– Что, Андрей Сергеевич, справляется наша техника? – спросил он у агронома, успевшего дойти до середины поля и вернуться.
– Отлично. Георгий Георгиевич, слов нет! И трактор хорош, а уж борона – просто чудо. Следующей весной еще бы штук двадцать таких, да еще немецких сеялок – горя знать не будем. Купим, Георгий Георгиевич?
– А купилки где взять? – вздохнул Бруткевич, однако в глубине души знал, что на уши встанет, но купит. И пусть визжат, что он, руководитель государственного предприятия, вбухивает деньги в импортную технику, главное, что земля воскресает, и что он, Бруткевич, в этом участвует.
А вот и ячмень. И хоть ни черта бывший геофизик, боксер, политтехнолог, «бомбила», несостоявшийся певец, в зерновых не смыслил, но генетической памятью русского, привыкшего умиляться всему, что, вопреки хреновой погоде и вечному бардаку, взросло и окрепло, Георгий чувствовал, как он хорош, этот крепкий ячмень. Покорно склонивший обрамленный венчиком, полный зерна колос, но при этом держащий стебель царственно прямо – он словно гордился, что да, на Бога надеялся, но и сам не оплошал.
Затрубил мобильник. Машка! Умница Машка, вещунья Машка – как чудесно угадала, в какую минуту позвонить!
– Машка, – зашептал Георгий, – ты, конечно, не помнишь, соплячка совсем, была такая картина, «Утро нашей Родины». Там Сталин в парадном мундире любуется полем пшеницы. А у нас тут ячмень… и какой ячмень! Той пшенице до него, как Шарон Стоун – до тебя. А вместо генералиссимуса – я. Только бы вовремя убрать. Молись, чтоб не было дождей.
– Уже молюсь, – ответила она, и голос был невеселый. – Тут, масса, вот какое дело. Толоконин в отпуске, и оппозиция опять замахала ручонками. Добилась парламентских слушаний по поводу «Недогонежпроекта» и лично вас.
Глава 4
Миттельшпиль. 1492 год. Март