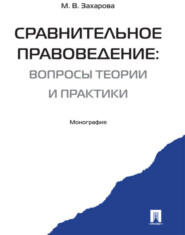По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Французская правовая система: теоретический анализ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Принято считать, что либерализм – это результат развития западноевропейской культуры. Как отмечает профессор В.Н. Жуков, «классический либерализм формируется в Новое время[124]». Его творческие основания, как подчеркивает К.С. Гаджиев, «восходят к Ренессансу, Реформации, ньютоновской научной революции. У ее истоков стояли Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, И. Кант, А. Смит, В. Гумбольдт,
Т. Джефферсон, Дж. Медисон, Б. Констан, А. де Токвиль… В формировании либерального мировоззрения участвовали представители европейского и американского Просвещения, французские физиократы, приверженцы английской манчестерской школы, представители немецкой классической философии, европейской классической политэкономии… Участники английской буржуазной революции середины ХVII в., Славной революции 1688 г., войны за независимость США руководствовались многими из тех идеалов и принципов, которые вскоре стали составной частью либерального мировоззрения»[125].
Представленные утверждения вряд ли стоит вводить в зону дискуссии и подвергать сомнению. Однако возникает вполне закономерной вопрос: о либерализме какой качественной направленности ведут речь в данном случае видные отечественные исследователи? Терминологически верно в данном случае говорить о либерализме политическом, для которого право становится лишь внешней формой выражения[126].
Что касается либерализма как системы универсального порядка, то его истоки можно найти в мировоззрении Античности. В переведенной Фукидидом знаменитой речи Перикл говорит: «В нашем государстве мы живем свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений: мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склонностям, и не высказываем ему хотя и безвредной, но тягостно воспринимаемой досады…»[127]
О юридическом либерализме[128] мы можем говорить, когда сама категория свободы[129] мыслится в релятивном ключе[130], а ее ограничение связано с установлением как внешних, так и внутренних нормативных универсумов поведения личности[131]. К первым соответственно следует относить правовые, религиозные и иные типы социальных предписаний, ко вторым, в частности, различные варианты внутреннего долженствования человека[132].
В контексте сравнительного правоведения следует провести аксиологию двух основных форм юридического либерализма – коллективной и индивидуальной.
Коллективная форма воплощения берет свое начало еще в мироощущении догосударственных обществ. Здесь идеи индивидуальной свободы нет и не может быть априори. Моя свобода – это лишь материал, кирпичик в коллективной свободе локализованного по кровнородственному принципу сообщества.
В нормативной и функциональной подсистеме общественных связей указанная форма юридического либерализма в традиционных обществах проявляет себя прежде всего через институты коллективной ответственности и коллективной собственности. При этом элементы коллективной ответственности, составляющие основное содержание данного социального института, представлены следующими положениями социальной доктрины: «Каждый член племени (клана) является ответственным за действия своих соплеменников; ценой индивидуальной безопасности в социуме выступает взаимное наблюдение членов этноса»[133].
Что касается режима коллективной собственности на вещи в традиционных обществах, то при его актуализации «непосредственно реализовывалось два принципа: рецепроктность (то есть все, что производилось, сдавалось в «общий котел») и редистрибуция (все сделанное перераспределялось между всеми, каждый получал определенную долю)»[134]. Также особенность коллективного режима собственности на имущество выражалась и в невозможности отчуждения вещей, принадлежащих всему этносу (семье) в целом.
Проявления юридического либерализма коллективного типа локализации можно найти и в конструкции социальных связей традиционных обществ. Сама система их иерархизации исключает применение принципа индивидуализации воли личности. Ты есть тот, кем были твои предки согласно кровнородственной ретроспективе, и никто иной – вот краткая теза подобной конструкции. Индивидуализация воли субъекта социальных отношений, конечно же, отсутствует и при реализации конструктивных базисов такого специфического института семейного права традиционных обществ, как «насильственный брак» [135].
Еще одной правовой территорией преломления идей коллективного либерализма следует считать, и не без оснований, юридические системы социалистического лагеря[136]. Также характерным примером институализации идей юридического либерализма коллективного типа были и остаются правовые системы исламского группового модуля. В данном случае следует сказать, что, согласно классической мировоззренческой платформе ислама, изложенной и в Коране, и в Сунне, «права и свободы человека базируются на двух принципах – равноправии и свободе[137]». Однако возникает вполне закономерный вопрос: о свободе и равенстве какого качественного порядка идет речь в данном случае?
Обращение к нормативной и идеологической составляющим правовых систем указанного сообщества позволяет нам сделать вывод о том, что свобода и равенство берутся в данном случае в религиозном аксиологическом звучании[138]. Ключевым, центростремительным понятием мировоззренческой системы ислама выступает категория мусульманской общины – «уммы»[139], члены которой должны соблюдать религиозные модусы поведения независимо от места своего проживания.
Либеральный коллективизм находит функциональные основы для реализации в различных сегментах социального регулирования. Так, в частности, в системе исламского права, которая получила названия «право личного статуса»[140], мы можем найти многочисленные образчики ограничения индивидуальной свободы личности, детерминируемые религиозными основаниями, – мусульманин по общему правилу не может вступать в брак с немусульманином; выйдя замуж, женщина переходит во власть мужчины и должна избегать встреч с другими мужчинами, не показываться в общественных местах; формулы полигамного брака обращены прежде всего к мужской половине человечества, а не к женской[141]. Присутствует указанный дух коллективизма и при конструировании и реализации деликтного права. Достаточно иллюстративны в данном случае предписания Корана, относящиеся к отправлению кровной мести: «А если кто-нибудь убит несправедливо, / Мы дали ближнему его / Власть – (возместить убийце)…» (Коран, сура 17 «Ночной перенос», айат 33) «О вы, кто верует! / Предписано вам право / За смерть (убитых близких) отплатить: За жизнь свободного – свободный, / И раб – за жизнь раба, / И за жену – жена» (Коран, сура 2 «Корова», айат 178)… «Мы предписали: / Душа – за душу, глаз – за глаз, нос – за нос, / Ухо – за ухо, зуб – за зуб, / За (нанесенье) ран – отмщение (по равной мере)…» (Коран, сура 5 «Трапеза», айат 45)»[142].
Таким образом, мы видим, что несколько сообществ правовых систем пошли по данному коллективному пути объективации «свободы» как феномена человеческого бытия.
Во-первых, это так называемые традиционные правовые системы. К их числу можно отнести (в чистом виде) африканские правовые системы государств доколониального периода.
Во-вторых, религиозные правовые системы (например, исламские правовые системы).
В-третьих, правовые системы социалистического типа в ХХ веке.
Традиционное же, индивидуалистическое звучание термину «юридический либерализм» было придано уже в Новое время. В данном случае сначала на бумаге (работы Д. Локка, Т. Гоббса, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Бентама и т. д.), а потом на деле человек пытался отвоевывать индивидуальные пространства для своей личности у социума.
Обращение человечества к данной форме юридического либерализма во многом было связано с расширением самого понятия «свобода» как такового. Если при коллективном своем аналоге либерализм имеет сугубо социальные основания и онтологизируется исключительно в рамках конструкций «индивид – индивид», «индивид – общество», то при индивидуалистическом своем звучании оно приобретает надпозитивный и метафизический смысл[143]. В означенном контексте свобода выступает как «атрибут человека, обусловливающий его способность выступать в качестве первопричины, аутодетерминанты своих социальных действий и в первую очередь своих нравственных поступков» [144].
Функциональную основу данной ипостаси либерализма достаточно верно подчеркнул В.В. Леонтович. В своей работе «История либерализма в России» он, в частности, пишет, что «основной метод действия либерализма – это не столько творческая деятельность, сколько устранение всего того, что грозит существованию индивидуальной свободы или мешает ее развитию» [145].
Имел юридический либерализм индивидуалистического типа и явные крайние точки своей объективации. В гуманитарной мысли они нашли свое отражение, в частности, в работах таких исследователей, как Фридрих Август Хайек и Людвиг фон Мизес. Конструкцию представленных западных ученых условно можно назвать юридическим либерализмом минимальных сдерживающих универсумов, где сама категория свободы приближается к своему абсолютному значению. Как пишет Ф. А. Хайек в своем эпохальном произведении «Дорога к рабству», «организуя ту или иную область жизнедеятельности, мы должны максимально опираться на спонтанные силы общества и как можно меньше прибегать к принуждению» [146]. Какие же эмпирические практики дали творческие основы для постулизации подобных выводов? Прежде всего опыт существования тоталитарных режимов в ХХ в., свидетелями распространения которых в Европе были и Ф.А. Хайек, и Л. фон Мизес. Увидев, как идея царства всеобщего счастья трансформировались на территориальной площадке фашисткой Италии и нацистской Германии в контракционный лагерь для идеи и практики индивидуальной человеческой свободы, Ф. А. Хайек открыто заявил, что «демократический социализм – это великая утопия последних поколений…»[147], а расцвет тоталитарных режимов есть не реакция на социалистические тенденции предшествующего периода, а неизбежное продолжение этих тенденций[148].
Именно второй из названных нами выше типов юридического либерализма стал для двух основных блоков, ориентированных в позитивном ключе правовых сообществ: континентально-европейского и англосаксонского, детерминированным ценностным основанием. При этом следует отметить, что если в континентальной Европе идеальный (книжный) юридический либерализм явно опережал свой функциональный аналог, то в англо-американских юридических пространствах такой разрыв между теорией и практикой носил менее заметный характер. Так, уже в Великой хартии вольностей, датируемой 1215 г., мы можем встретить отдельные статьи, объективизирующие юридический либерализм индивидуального типа[149]. Однако наиболее показателен в данной связи опыт не английской правовой системы, а правовой системы Соединенных Штатов Америки, которая с самых первых шагов своей институализации избрала в качестве базисной ценностной основы именно юридический либерализм индивидуального типа локализации. Так, в частности, в Декларации прав Виржинии 1776 г. (документе, которой смело можно назвать модельном актом для Конституции США 1787 г., Билля о правах США 1791 г.) мы читаем следующее: «Все люди по природе являются в равной степени свободными и независимыми и обладают определенными прирожденными правами, коих они – при вступлении в общественное состояние – не могут лишить себя и своих потомков каким-либо соглашением, а именно: правом на жизнь и свободу со средствами приобретения и владения собственностью, правом на стремление к счастью и безопасности и их приобретение»[150].
Новые качественные платформы для практических воплощений юридический либерализм индивидуального типа нашел во Франции в связи с развертыванием идей и практик так называемой «единой Европы».
Категорией практической активности в данном случае выступил термин «либерализация»[151] – своего рода функциональный аналог более широкого по внешним характеристикам и внутренним содержаниям социального течения юридического либерализма как такового.
Как отмечает профессор А.О. Четвериков: «либерализация в юридическом смысле призвана обеспечить устранение не любых возможных препятствий, вытекающих, например, из социальных обычаев или природных факторов, а именно тех, которые ранее были установлены самим же государством и теперь, по его мнению, требуют смягчения или полной ликвидации… По своей степени (интенсивности) данный процесс, может носить всеобъемлющий характер, предусматривать устранение всех созданных государством препятствий (полная либерализация) или же преследовать более осторожные цели, связанные с устранением или смягчением только отдельных ограничений (частичная либерализация)» [152].
В праве Европейского союза рассматриваемый термин применяется изначально на всех уровнях системы его источников, начиная с учредительных договоров. Уже в первоначальной редакции Римского договора (Договор о ЕЭС 1957 г.) мы можем его встретить, например, в таких сочетаниях, как «либерализация перемещений работников» (устранение препятствий свободе передвижения работников), «либерализация передвижения капиталов» (обеспечение свободы передвижения капиталов)17, «либерализация услуг» (освобождение от ограничений трансграничного оказания услуг различного характера в контексте свободы передвижения услуг) или «степень либерализации» (в отношении отмены количественных ограничений и равнозначных мер, препятствующих свободе передвижения товаров)[153].
Сферы социальных практик «либерализации» многообразны. Так, в частности, в ст. 46 ДФЕС мы можем встретить следующие юридические предписания, относящиеся к регламентации свободного перемещения наемных работников: институты ЕС уполномочены принимать разнообразные меры, в том числе упраздняя вытекающие из внутреннего законодательства либо из соглашений, ранее заключенных между государствами-членами, виды административных процедур и административной практики, сохранение которых служило бы препятствием либерализации перемещений работников.
Наибольшая же активность данного социального течения в практике единой Европы была отмечена с самых первых шагов ее пролонгации в экономической сфере.
Исходя из этой посылки, либерализацию трансграничных отношений внутри ЕС было предложено сконцентрировать первоначально на экономике – создать единое экономическое пространство в форме общего рынка, которому предшествовало создание общего рынка угля и стали (в рамках ЕОУС) и таможенного союза. Общий рынок ЕЭС со временем (к началу 1990-х гг.) был трансформирован в единый внутренний рынок ЕС, дополненный на рубеже XX–XXI вв. единой денежной единицей евро в рамках экономического и валютного союза[154].
Что же касается современного периода развития континентально-европейского стиля правового мышления во Франции[155], то он, на наш субъективный взгляд, проходит под эгидой «неотечений» этического порядка. Мы имеем в виду здесь прежде всего неореалистические правовые конструкции и идеологические базисы юридического неофетишизма. Своеобразие неореализма Франции заключается в том, что, с одной стороны, это течение, впитав в себя конструктивные основы нормативизма Ганса Кельзена, упрочило позиции системообразующей линии континентально-европейского стиля правового мышления, а с другой – явило юридическому миру достаточно своеобразную теорию толкования «Thеorie rеaliste de l interprеtation» [156] (TRI). Отправной точкой этой теории следует считать тезис о том, что тексты закона носят неопределенный характер («principe de l’indetermination textuelle»), а нормы права – нет («principe de determination normative»)[157]. Таким образом, в эпоху современного неореализма французская правовая система столкнулась с опасностью, о которой предупреждал Ф. Жени еще в конце позапрошлого века, когда критиковал представителей «L’Еcole de l’exеg?se» за открытие дороги к субъективизму судей под маской поиска и утверждения мистической воли законодателя[158].
Что касается оценки «юридического неофетишизма», институализировавшегося во Франции с середины ХХ в., то он, по нашему мнению, приобрел начиная с указанного периода прежде всего международно-правовой генезис. Если ранее в эпоху создания «les cinq codes» национальное право становилось той панацеей, с которой связывали французские юристы решение всех проблем юридической зоны действия, то начиная с середины ХХ в., таким фетишем стало выступать международное гуманитарное право. Окончание Второй мировой войны и начавшийся за ним активный динамический всплеск генерации наднациональных правовых инструментариев, связанной прежде всего с созданием Организации Объединенных Наций, стали прямой причиной догматической институализации на французской правовой арене подобного фетиша. В ст. 55 Конституции Франции прямо закреплено, что «международные договоры или соглашения, должным образом ратифицированные или одобренные, имеют силу, превышающую силу законов, с момента опубликования, при условии применения каждого соглашения или договора другой стороной» [159]. Продолжением избранного в 1958 г. пути следует считать присоединение Франции в 1992 г. к юрисдикции Европейского союза[160] и в 1999 г.[161] – к юрисдикции Международного уголовного трибунала. В данном отношении отрицательное голосование французов по вопросу принятия Европейской конституции[162] следует считать определенной попыткой преодоления гражданским обществом того «юридического неофетишизма» наднационального характера действия, который последовательно насаждает государственная власть начиная с середины ХХ в. Однако указанные события, на наш взгляд, послужили основанием лишь к взятию определенной передышки в отношении пролонгации институализации на французской правовой арене общеевропейских юридических догм, но отнюдь не к затуханию активности по данном вопросу. ХХI в., несмотря на некоторое сопротивление гражданского общества Франции, станет для этой страны веком объективации «юридического неофетишизма» международного характера генезиса и действия. Весомую роль в данном вопросе сыграют как универсальные, так и региональные международные организации.
Итак, нами был дан репрезентативный анализ ценностных основ французской правовой системы современного типа. Подводя общие итоги по проблеме, отметим следующее.
Со времен первых шагов французской правовой системы по институализации континентально-европейского стиля правового мышления прошло достаточное количество времени. За этот эволюционный период французская правовая система испытала на себе влияние следующих крупных идеологических детерминант:
– доктрина «рационалистического естественного права» – исторически одно из первых этических учений, оказавших первостепенное влияние на понимание государственно-властными структурами Франции сущности процессов правопонимания и правообразования;
– «юридический мистицизм» имеющий соответственно две грани воплощения: естественно-правовую (натуралистическую), выраженную в трудах французских просветителей (в частности, Ж.-Ж. Руссо), и форму «юридического фетишизма»;
– социологическое учение о праве (получило практическое воплощение прежде всего во французской теории толкования юридических предписаний);
– «юридический неофетишизм» наднационального характера действия (начало эпохи объективации – середина ХХ в.).
Безусловно, и иные идеологические базисы получали форму теоретической объективации во французском правовом пространстве. Среди них можно, в частности, назвать «юридический скептицизм»[163] и теорию «социальной солидарности»[164]. Однако эти теоретические объективации не имели практического воплощения. Франция, как и любая страна формально-догматического правопорядка, вряд ли когда-нибудь в полной мере сможет связать себя узами «юридического скептицизма», обличая саму себя в сотворении несправедливых законов, или вернуться в прошлое (время Кутюмов) и провозгласить не государственную волю, а «коллективный дух» в качестве творящей силы правового феномена.
Совершенно особое место в ценностной системе французского юридического бытия занимают максимы юридического либерализма[165] и юридического позитивизма[166]. Как и ее соседи по континентально-европейскому юридическому пространству, Франция пролонгировала на своих социальных площадках юридический либерализм индивидуального типа, появление которого ознаменовало собой принципиально новый виток в развитии человечества. Это было время, когда человек взглянул на «свободу» с доопытных позиций, тем самым создав теоретические предпосылки для актуализации автономии собственной воли у социума.
Безусловными «заслугами» данного типа юридического либерализма следует считать практическое развертывание конструкций юснатурализма, который, во многом ценой массовой гибели людей на различного рода революционных баррикадах, а также в войнах за независимость народов и континентов, смог все-таки пройти долгий путь от бледной идеи на пожелтевших страницах до точек формального закрепления и даже практической реализации. Однако не следует забывать и о тех опасностях, которые таит в себе абсолютизация воли «единичного» в социуме. Основная угроза, которую несет в себе юридический либерализм крайнего типа локализации, заключается в том, что индивидуальная свобода одной социальной единицы не просто декларируется, а противопоставляется свободе других социальных единиц.
§ 2. Юридический позитивизм – базисное основание французского правопорядка
В представленном выше параграфе монографического исследования нами был дан краткий репрезентативный анализ мировоззренческих платформ онтологизации французской правовой системы. Как уже отмечалось выше, совершенно особое место в их системе занимает такое полифоническое течение мировой юридической мысли, как юридический позитивизм[167].
Каково его содержательное наполнение? В чем проявляется его сущностные аспекты актуализации? Каковы, наконец, детерминированные воздействия указанного социального течения на развертывание французского правопорядка настоящего, прошлого и будущего?
Попытаемся последовательно ответить на поставленные выше доктринальные дискусы.
Как совершенно справедливо отмечает профессор Ю.А. Баскин, «юридический позитивизм в целом определил лицо европейской правовой науки во второй половине XIX в.»[168]. Данное положение юридической доктрины вряд ли стоит вводить в зону дискуссии. Не столь очевидными представляются качественное звучание и наполнение представленного выше течения.
Многообразие подходов к его сущностным и содержательным репрезентативным образам условно можно представить двумя масштабными направлениями. В одном случае идет сужение его объема, прежде всего за счет отождествления с тем или иным внешним воплощением[169]. В другом, напротив, – расширение по модусу включения в его содержание многообразных вариаций установленности (позитивности) правового феномена как такового. Так, профессор Г.В. Мальцев условно разделяет юридический позитивизм на три большие группы учений, теорий и доктрин: государственно-институциональный (этатический), социологический и антропологический (психологический и биологический)[170]. На таком же принципе основывается и немецкий правовед В. Отт, когда говорит о трех вариациях правового позитивизма: этатическом, социологическом и психологическом.
Безусловно, в контексте раскрытия проблемы «юридический позитивизм – базисное основание французского правопорядка» следует говорить об этатическом аспекте понимания юридического позитивизма, вектор которого предполагает восприятие права как продукта государственной воли в самом широком смысле этого слова. При этом, по выражению профессора А.Ю. Баскина:
– данный подход также предполагает, что «именно позитивное право, выраженное в законных и других нормативных актах, должна изучать юридическая наука. Именно это, а не какое-либо иное право обязаны применять судьи и должностные лица государства»;
– его актуализация насыщает правовой феномен такими признаками, как «формальная определенность и обеспеченность принудительной силой государства».
– применение норм права к конкретному случаю, – продолжает автор, – это логический силлогизм, в котором роль большей посылки играет юридическая норма, меньшей – данные конкретного случая, а заключения – правовое решение дела. Установление большей посылки происходит в результате толкования закона. Главным основанием решения должен быть буквальный смысл закона, поэтому самым лучшим вариантом было бы создание идеального законодательства, которое предусмотрело бы все встречающиеся в жизни правовые ситуации. Но поскольку это не всегда возможно, в случае неполноты, противоречия или отсутствия закона надлежит прибегать к его общему смыслу. Для того чтобы открыть этот «общий смысл», следует обратиться к «воле законодателя» или «воле закона»[171].