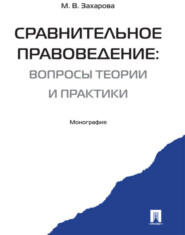По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Французская правовая система: теоретический анализ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нибандхазы
III. Исламское право
Коран Сунны
Иджма Кияс Фетвы Ферманы
Как видим, временные точки актуализации религиозных источников права stricto sensu представлены в мозаичном ключе. Однако, какова бы ни была их первоначальная темпоральная точка отсчета, при сложившейся стилистике правового мышления они реализуют в себе статический, с одной стороны, и цементирующий с другой, элемент всей юридико-религиозной системы. Что касается доктринальных источников права, то они, напротив, служат цели динамической направленности системы, давая через субъективно данное аутентичные ответы на вызовы изменяющейся социальной среды.
Таковыми предстают перед нами образы стилистики правового мышления разных точек временной, пространственной и социальной имплементаций.
В отношении Франции следует заметить, что ее юридическое настоящее и прошлое традиционно идентифицируют с точки зрения детерминант континентально-европейского стиля правового мышления, то есть образа (манеры) интеллектуальной деятельности в юридической сфере, где доминирует внешний по отношению к социальной среде (как правило, законодательный) способ правовобразования[89].
Временем начала генерации французской правовой системы представленной выше групповой направленности с определенной долей условности можно назвать XVII век, пришедшей на смену детерминантам традиционного (обычно-правового) способа правообразования. В пользу этого утверждения говорят исторические свидетельства, подтверждающие появление именно нормативно-правовых регуляторов общественных отношений, прежде всего Ордонансов. В этом же столетии в Сорбонне впервые в истории страны открывается кафедра французского права (1679 г.).
Ордонансы Людовика XIV по сути, стали прообразами и отчасти источниками права в гносеологическом значении этого слова для универсальных кодификаций XIX столетия. Так, в Ордонансе 1667 г. по вопросам реформирования судебной системы мы находим явные модельные положения для Гражданско-процессуального кодекса 1806 г.; в так называемом криминальном Ордонансе 1670 г. – для Уголовно-процессуального кодекса 1808 г.; в Торговом Ордонансе 1673 г. – для Торгового кодекса 1807 г.
Окончательное укоренение на французской социальной почве континентально-европейского стиля правового мышления произошло в конце XVIII столетия, когда правовой сепаратизм Кутюмов ушел в небытие, уступив место доктрине единства правовой системы Франции. Такому во многом судьбоносному повороту в своей истории Франция обязана, безусловно, политическим событиям 1789 г. Отныне только закон вправе был ограничивать свободу индивида, он же гарантировал равенство граждан в реализации их личных и имущественных прав. Как отмечают французские авторы, вслед за созданием первых кодификационных актов французская юриспруденция впала в настоящую «мистическую зависимость от закона» [90].
Встав на континентально-европейские рельсы, французская правовая система в дальнейшем развивалась созвучно с другими правовыми системами так называемой романской групповой направленности, то есть ей были свойственны такие качественные характеристики, как:
1) отсутствие тотальной рецепции римского права вследствие:
а) развитости местных обычаев (кутюмов), которые широко использовались;
б) влиятельного положения судей (в частности, судей Парижского суда), поддерживающих королевскую власть и заинтересованных в развитии местного права;
2) кодексы как основные источники права – устаревшие (наполеоновской эпохи), наравне с ними действуют новые законодательные акты, которые группируются (консолидируются) без «переосмысления» совокупности норм отраслей права, чем подрывается принцип верховенства кодексов в иерархии нормативных правовых актов;
3) нормотворческая функция исполнительной высшей власти шире по сравнению с Германией: правительство издает ордонансы, декреты, решения, постановления и другие акты, значение которых в системе источников права велико;
4) принципы права признаются в качестве самостоятельного источника права, особенно в тех отраслях права (административное право), где имеются пробелы;
5) судебная практика рассматривается в качестве субсидиарного источника права – «источника в рамках закона» (авторитетными для судьи считаются предыдущие судебные решения);
6) публично-правовые приемы в регулировании отношений между частными лицами используются больше, чем в германской группе.
7) решения Конституционного Совета ограничены сферой предварительного контроля над конституционностью законопроектов и не оказывают существенного влияния на действующие законы и подзаконные акты, как это свойственно Германии;
8) международные договоры или соглашения, ратифицированные или одобренные надлежащим образом, признаются в качестве источника права;
9) использование институционной системы построения гражданских кодексов – Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) состоит из разделов (институтов): лица, вещи, способы приобретения вещей (обязательства). В нем имеется краткий «Вводный титул об опубликовании, действии и применении законов вообще», содержащий нормы более широкого значения, чем гражданско-правовые (типа конституционных). Практически Общая часть отсутствует[91].
Сегодня, всматриваясь в ретроспективные очертания французской правовой системы, следует со всей очевидностью признать тот факт, что ей не были свойственны те скачкообразные революционные преобразования национального правопорядка, которые потрясали отечественную правовую систему.
Однако представленное утверждение вовсе не означает, что основные элементы правовой системы – ценностный, нормативный, институциональный – не проходили сквозь горнила изменчивости, в той или иной мере трансформируя первоначальные заданные точки эволюционного курса.
В представленных ниже главах монографического исследования нами будет проведен доктринальный анализ упомянутых выше сегментов французской правовой системы, указаны векторы дисперсии французского права как такового, а также представлена гносеологическая оценка феномена глобализации в эмпирических данностях французского правопорядка.
Глава II
Ценностное измерение французской правовой системы
§ 1.Ретроспективный анализ мировоззренческих платформ онтологизации французской правовой системы
Национальный правопорядок каждого государства имеет в своей основе ту или иную культурно-идеологическую и цивилизационную основу. Во многом именно эти базисы определяют ход эволюционного развития национальных правовых систем и качественную направленность аттракторов в точках бифуркационного излома. Аксиологический анализ указанных идеологических платформ функционирования правовых систем современности имеет безусловную ценность как с точки зрения аналитико-ретроспективных задач, стоящих перед юридической наукой, так и в отношении прогностических функций юриспруденции.
Ретроспективный мониторинг гуманитарных течений, школ и иных вариантов доктринальных экзерсисов XVII–XXI вв. позволяет говорить сразу о нескольких направлениях в социальной науке детерминирующих пролонгаций ценностного измерения французской правовой системы настоящего и прошлого.
Какова же природа указанных социальных доктрин и в чем проявляется функциональная направленность их преломления? Попытаемся последовательно ответить на эти вопросы.
Исторически первой крупной социальной доктриной, оказавшей первостепенное детерминирующее воздействие на формирование континентально-европейского стиля правового мышления во Франции, стала социальная платформа эпохи Просвещения, и прежде всего доктрина «рационалистического естественного права»[92], рассматривающая содержание права с позиции существования естественного права как выражения разумной природы человека. Ярким выразителем идей этого этического направления стал Ш.-Л. Монтескье. Своеобразие этой модели юснатурализма в интерпретации Ш.-Л. Монтескье было связано во многом с двойственностью взгляда просветителя на само существо социально-правового пространства. По образному выражению немецкого философа Ф. Мейнеке, Ш.-Л. Монтескье удалось посмотреть на общество не только сверху, «глазами государственного деятеля»[93], но и снизу, «исходя из потребностей управляемых индивидов»[94]. В данном случае его взгляды нельзя синхронизировать с этической платформой Ж.-Ж. Руссо, который в своей первой книге «Об общественном договоре» писал, что: «Меня могут спросить: разве я государь или законодатель, что пишу о политике. Будь я государь или законодатель, я не стал бы терять время на разговоры о том, что нужно сделать, – я либо делал бы это, либо молчал»[95]. Ш.-Л. Монтескье в большей степени, чем его единомышленники по «цеху» Просвещения, был способен связать «идею о праве» с правом как таковым. Конечно, как и Д. Дидро[96], он рассуждал о социально-правовых феноменах с точки зрения «должного», утверждая, в частности, что закон есть человеческий разум, поскольку он управляет всеми народами земли, а политические и гражданские законы каждого народа должны быть не более как частными приложениями этого разума»[97]. Однако указанное обстоятельство отнюдь не мешало ему критиковать отдельные объективации «человеческого разума» в лице нерадивых проявлений законодательной воли. Так, в «De l’Esprit des lois» мы находим красноречивый пример двух несправедливых законов, изданных в разные исторические эпохи, но имеющих одинаковое содержательное наполнение (Ш.-Л. Монтескье называет их не иначе, как «разбоем»). Речь идет о неудачном опыте заимствования французской правовой системой римского закона, касающегося запрета на хранение в доме денежных средств сверх лимитированной суммы (в эпоху Цезаря – 60 сестерциев)[98]. При этом следует заметить, что именно «рациональная» составляющая того «естественного права», которое декларирует Ш.-Л. Монтескье в «Духе законов», позволила ему перевести указанные выше описания несправедливых законов различных исторических эпох из разряда пустого сотрясания воздуха в разряд конструктивной критики, способной не только обличать, но и созидать. Мы имеем в виду, конечно же, те инструментарии законодательного созидания, которые вошли ныне во все учебники по юридической технике[99] и которыми смогли воспользоваться строители французской правовой системы постреволюционной эпохи.
Помимо доктрины «рационалистического естественного права», эпоха Просвещения дала континентально-европейскому стилю правового мышления и другие немаловажные генетические основы. Именно в этот исторический отрезок времени с достаточной очевидностью начал проявлять себя «юридический мистицизм»[100], то есть социальная доктрина, воспринимающая правовой феномен (в субъективном и объективном значении этого слова) как некую догму, не имеющую под собой рациональных обоснований. Когда Ж.-Ж. Руссо в «Общественном договоре» пишет, что «l’homme est nе libre», то есть «человек рожден свободным», мы имеем дело с декларацией как раз такого догматического порядка. В данном случае на общем фундаменте юснатурализма французская правовая система получила догму чисто юридического порядка. Именно эта догма, декларирующая неотчуждаемость ряда субъективных прав личности (права на жизнь, на достоинство личности, на свободу и т. д.), стала для вершителей Великой французской революции надежной идеологической платформой и руководством к действию. Благодаря ее реализации на практической ниве Франция смогла стать пионером в европейском территориальном пространстве в деле юридического провозглашения и закрепления основ правового статуса «человека свободного». Мы имеем в виду, конечно же, принятие Национальным Учредительным собранием в августе 1789 г. Dеclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Можно оценивать «юридический мистицизм» естественно-правовой школы права с различных позиций. В юридической литературе мы можем встретить порой диаметрально противоположные точки зрения по этому вопросу: от крайне правых и позитивных до крайне левых и негативных. Однако эти взгляды будут лишь теоретическими оценками указанного идеологического феномена. Нас же в большей степени интересует его практическое преломление. Тот факт, что современная французская Конституция 1958 г., Конституция V Республики сохранила пролонгацию действия Декларации прав человека и гражданина 1789 г., включив ее в свое содержание, говорит о многом. И прежде всего о том, что внешний по отношению к социуму способ созидания права, свойственный континентально-европейскому стилю правового мышления Франции, впитал в себя догмы юснатурализма и придал им силу закона в формально-юридическом значении этого слова.
Как уже отмечалось выше, революционные события 1789 г. оказали первостепенное влияние не только на развитие французской политической, но и правовой систем. Революционные набаты по сути сыграли похоронные марши традиционному феодальному праву Франции. При этом, если первое десятилетие после свершения Великой французской революции прошло явно под эгидой естественно-правового этического учения (в самых различных его проявлениях!), то начало девятнадцатого столетия ознаменовало собой появление совершенно нового для французской правовой системы идеологического базиса – «юридического фетишизма». Отчасти это этическое направление можно назвать одним из многочисленных вариантов внешней объективации «юридического мистицизма»[101]. Но в отличие от аналогичного направления в естественно-правовой школе права, речь о котором шла выше, «юридический фетишизм» начала XIX в. во Франции имел совершенно иные генетические корни. Ослепленные политическими событиями конца XVIII столетия, французские законотворцы искренне уверовали в то, что смогут создать непогрешимые юридические предписания, а создав некий комплекс правовых норм, возвели их в разряд догмы и фетиша. Если применить образную конструкцию, то можно (с определенной долей условности!) сравнить «юридический фетишизм» с идеей «государственного суверенитета». В обоих случаях мы имеем дело с обусловленностью феноменов (в первом случае правового, во втором – политического характера) с точки зрения внутренних основ их существования, а не внешних. В противоположность, например, конструкции народного суверенитета, где источником детерминированной объективации выступает народная воля, или «юридического мистицизма» в его естественно-правовом или религиозном преломлениях, где соответственно Демиургом догматичных предписаний выступают Природа и Бог.
Фетишем в данном случае в первую очередь выступили знаменитые «les cinq codes» (пять кодексов): Code Civile 1804 г., Code de procedure Civile 1806 г., Code de Commerce 1807 г., Code d instruction Criminelle 1808 г., Code Pеnal 1810 г. (Гражданский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Торговый кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс). Как подчеркивает Э. Аннерс, «les cinq codes» являлись «наиболее полной кодификационной работой, появившейся в западноевропейских странах после «Corpus Juris Civilis», институализирующей «сумму всего социального прогресса демократической революции»[102]. Указанные кодификационные акты действительно являлись блистательными образцами юридической мысли своей эпохи, о чем свидетельствует устойчивость их существования во времени[103] и идеологическое распространение в пространстве[104].
Прямым следствием институализации на французской идеологической правовой карте такого этического течения, как «юридический фетишизм», стало появление «экзегетической школы толкования»[105] («L’Еcole de l’exеg?se»[106]). В данном случае адепты этого юридического направления (А. Дюрантон, Ш. Тулье, Ф. Лоран и Ш. Демоломб), используя еще античный подход к существу процесса толкования, попытались создать сугубо формально-юридическую модель интерпретационного процесса. Как отмечают французские исследователи, учение о толковании «L’Еcole de l’exеg?se» можно свести к двум несложным тезисам: «все право вмещается в писаный закон; юрист должен просто извлечь его оттуда, следуя за волей законодателя» [107].
Какими же методами пользовались экзегеты для того, чтобы в полной мере уяснить смысл законодательной воли? На первом месте в череде интерпретационных инструментариев стояли, безусловно, логические средства. В рамках логического анализа использовались различные суждения: «a pari», «a fortori», «a contrario». Так, толкованиест. 6 Французского гражданского кодекса, согласно которому «заключаемые частные соглашения не могут нарушать законы, которые затрагивают государственное устройство и правила приличия» с использованием принципа «a contrario» («от противного»), позволяло экзегетам ФГК прийти к следующим немаловажным выводам: «заключаемые соглашения могут включать положения, нарушающие те законы, которые не касаются ни государственного строя, ни правил приличия». Техника экзегетического толкования также включала в себя грамматический анализ самого текста закона и исторический мониторинг процесса его создания. Порой для того, чтобы понять мысль законодателя, необходимо было обращаться к опубликованным работам, предварявшим принятие закона (материалы парламентских дебатов и комиссий и т. д.), а иногда и к источникам права в гносеологическом смысле этого слова (исторические прецеденты и кутюмы). В череде направлений интерпретационного поиска «L’Еcole de l’exеg?se» следует назвать и анализ не только «буквы» закона, но и его «духа». В данном случае имеется в виду не только «дух» конкретного закона, но и «дух» целых отраслей права. Поэтому в систему экзегетической методики толкования включалась работа по сопоставлению текстов различных законов с целью отыскания общей объединяющей их законодательной идеи.
Оценивая представленную выше идеологическую платформу «юридического фетишизма», следует отметить, что ее детерминанты получили дальнейшее развитие во французской правовой системе (вплоть до настоящего времени), эволюционируя в юридический догматизм менее строгого порядка. Однако принципиальная недооценка потенциала диалектического развития правового феномена, его определение как заданного явления вне влияния временных факторов, способного решить все проблемы регламентации общественных отношений настоящего и будущего, изначально поставили под угрозу беспощадной (и надо отметить вполне оправданной!) критики весь комплекс теоретических конструкций «юридического фетишизма». Именно этот априорный изъян сугубо догматического порядка стал основной причиной появления на идеологической сцене французской правовой системы нового подхода к существу правового феномена. Этим подходом стало социологическое учение о праве[108], которое, по словам президента Академии гуманитарных и политических наук Французской Республики Франсуа Тэре, «получило во Франции постоянную прописку» [109].
Каковы же основные теоретические основы этого учения и в чем проявляется специфика их институализации во французском юридическом пространстве?
Временем объективации социологической школы права во французской правовой системе следует считать XIX век. Хотя следует признать, что исторические корни социологического учения о существе общественных процессов можно найти еще в трудах античных мыслителей. Как совершенно справедливо отмечает Ж. Карбонье, проявлением безусловной социологической интуиции следует считать работы Гераклита, который «с успехом применил к правовым явлениям свое учение о противоположностях, конфликтах, диалектике справедливого и несправедливого» [110].
Как уже отмечалось выше, социологическое учение о праве получило объективацию на волне критики классической догматической юриспруденции. В ХIХ – начале ХХ в. развитие этого учения связывалось, прежде всего, с течением «свободного права»[111]. Во Франции его апологетами стали Ф. Жени, Р. Салейль[112], Э. Ламбер[113], в Бельгии –
В. Эйкен[114]. Эпохальным событием в данной связи следует считать выход в свет работы Ф. Жени, посвященной проблемам юридической интерпретации «Mеthode d’interprеtation et source en droit privе positif» [115], в которой не только было представлено социологическое видение существа правового пространства, что делалось и ранее, но, что особо важно подчеркнуть, предлагался принципиально новый метод толкования юридических предписаний – «Mеthode de la libre recherche sciеntifique» («Метод свободного научного поиска»).
Во многом камнем преткновения между выразителями идей «L’Еcole de l’exеg?se» и апологетами «Mеthode de la libre recherche sciеntifique» стало неоднозначное толкование представителями этих течений ст. 4 Французского гражданского кодекса, которая устанавливает, что «судья, который откажется судить под предлогом молчания, темноты или недостаточности закона, может подлежать преследованию по обвинению в отказе в правосудии»[116]. Юридические догматики («комментаторы» кодифицированных актов, как называли их во Франции) настаивали на том, что «Кодекс потому запрещает судье прикрываться молчанием закона, что, по мысли его создателей, кодификация французского права должна была выявить совокупность общих принципов, вполне достаточных для потребностей практики», в силу чего «неполнота отдельно взятого закона кажется лишь кажущейся, и судья не вправе на нее ссылаться». Идеологи «свободного права», напротив, настаивали на том, что «в случае неполноты или отсутствия закона судья не может отказать в правосудии, но найти решение он должен путем анализа фактов, лежащих вне права, т. е. на основе «свободного права» [117].
Доктринальный анализ работ представителей французской школы «свободного права» свидетельствует о том, что идейная платформа этой школы была чрезвычайно мозаична. Мозаичность эта проявлялась и в неоднородности взглядов самих ученых внутри теоретического пространства этого юридического направления и во многом в переплетении их научных платформ с идеологическими базисами других этических направлений. Так, чрезвычайный субъективизм интуитивного вектора действия Ф. Жени («les lumi?res fugitives de la conscience individuelle») подвергался резкой критике со стороны его коллег[118] (в своих научных поисках «искания правды» он действительно доходил порой до абсурдных выводов, предлагая законодателю «расширить или, наоборот, сузить поле, предоставленное обычаю или свободному усмотрению судьи»[119], тем самым сознательно допуская существование пробелов с ведома законодателя»!). С другой стороны, в отдельных компонентах правовой доктрины существует первостепенная связь между течением «свободного права» и идеологами «юридического романтизма»[120] в лице исторической школы права. Подобные точки пересечения юридических конструкций мы можем, в частности, найти в идеологической платформе Р. Салейля. Для него, как и для Г. Гуго и К. Савиньи, генетические основы права виделись прежде всего в «коллективной психологии» людей. Знание ее законов, подчеркивает Р. Салейль, дает возможность понять факторы, которые направляют эволюцию права, юридический прогресс[121].
В ХХ в. центры юридической социологии переместились из французских пределов главным образом в страны англо-американского мира. Именно в этих странах это юридическое направление получило свое практическое преломление. Весомый вклад в развитие идей юридической социологии внесли американские юристы О.У. Холмс, Р. Паунд, Б.Н. Кардозо.
А что же Франция? Она так и осталась страной, лишь декларирующей соцологическо-правовые детерминанты, никоим образом не пытавшейся привнести идеологические базисы этой школы на практическую ниву собственной национальной правовой системы? Однозначно положительный ответ на этот вопрос был бы не столь очевидным, как кажется на первый взгляд. И виной тому прежде всего проблема толкования с использованием метода «свободного научного поиска». Сегодня французский правоприменитель утилизирует его так же, как и классические логико-грамматические приемы «L’Еcole de l’exеg?se», а значит, мы смело можем констатировать, что школа «свободного права»[122] нашла себе пристанище в функциональной нише французской правовой системы. Другое дело, что многие идеи этой школы так и остались объективацией научных работ, а не реальной практикой жизни. Но это во многом дело времени, а может, и людей, которые в это время творят.
Говоря о культурно-ценностных основаниях французской правовой системы, нельзя избежать оценки и юридического либерализма, который к настоящему периоду времени стал предметом небезосновательной гордости граждан Французской Республики в сепаративном ключе и всей современной французской нации в целом.
Но вначале остановимся на проблеме доктринальной оценки указанного выше социального течения.
Эволюция либерализма – это история учений о свободе, категории многоаспектной и многозначной. Ш.-Л. Монтескье в данной связи весьма красноречиво писал: «Нет другого слова, которое получило бы больше различных значений и повлияло бы на умы столь разнообразно, как слово «свобода». Одни посчитали ее за возможность свергнуть государя, которому они дали тираническую власть; другие – за право избирать того, кому они должны повиноваться; третьи сочли ее правом носить оружие и проявлять жестокость; иные – привилегией иметь в правлениях человека своей нации или подчиняться лишь собственным законам. Некий народ принимал свободу за обычай носить длинную бороду…»[123]