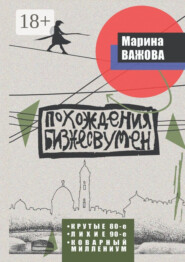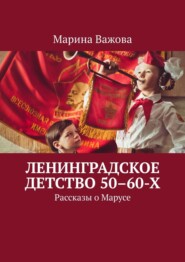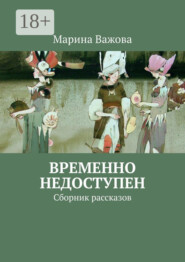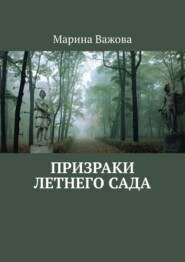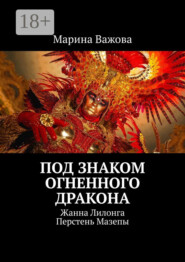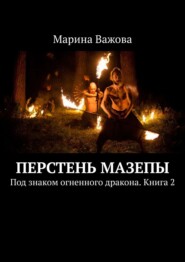По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Похождения бизнесвумен. Книга 3. Коварный Миллениум
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ира Филонова вскоре уехала, только в Финляндию – давно готовилась, вела переписку с типографией. Хорошо, что на пике загрузки взяли Катю Мельник, тоже мухинскую, так что дизайн-студия продолжила своё существование, не теряя темпа.
СОЮЗ С БЫВШИМИ
Буквально ещё полгода назад печать в Финляндии была выгодна во всех отношениях. Теперь, когда курс финской марки стал расти вслед за долларом, интерес пропал. Но в России печатать наши престижные издания и вовсе невозможно. Лучшая типография «Ивана Фёдорова» практически встала, сдаёт площади в аренду. Остальные хоть и берутся, но качества не держат, а цена такая же, как у финнов. Ссылаются на пошлины и налоги, мол, бумагу и краску ввозят из-за рубежа. А куда деваться? Своя промышленность разорена.
Остаётся Прибалтика. Обзвонив несколько типографий, приходим в уныние: по-русски никто не желает разговаривать, да и вообще нам явно не рады. И тут, когда руки уже совсем опустились, возник некий Артис Эрглис, приехавший из Риги для налаживания связей с питерскими издательствами.
Артис – владелец небольшого печатного производства, но при необходимости может пристроить наш заказ на любую типографию Латвии. У него открыт счёт в Москве, можем платить в рублях. Он раскладывает на столе прекрасные образцы печати, но что по стоимости? Первый же расчёт показал – мы получаем ту же цену в рублях, по которой печатали у финнов до скачка курса! Это весьма кстати. Как раз заканчивается вёрстка трёх альбомов с целым набором полиграфических изысков: стохастика, печать на кальке, выборочное лакирование, – реализация которых возможна лишь за рубежом.
Стохастика – это такой частотно-модулированный растр, который… Короче, изображение получается как супер-фото – видна всякая мелочь толщиной в волосок. Что крайне важно для альбома «Холодное оружие народов Кавказа», где чуть не на каждой странице клинки с затейливыми гравировками. Тираж этой книги мы и поручили Артису, договорившись приехать и посмотреть сигнальные экземпляры.
К упомянутому растру мы имеем прямое отношение. Дело в том, что «Русская коллекция» – опытная площадка Полиграфического института, сотворившего этот самый стохастический растр. Посему с нами отправляют институтского технолога Сергея Кузьменко. Он родом из Литвы, в чём мы видим хороший знак: прибалты скорее друг с другом договорятся, ежели что. Кудерыч с Кузьменко уже спелись на почве стохастики, поскольку вместе ведут исследования. Оба высоченные, только Кузьменко моложе и молчаливее.
В Риге нас встречает Артис, и мы отправляемся на старейшую в Латвии Елгавскую типографию. Ехать сорок четыре километра. Водитель Марис всю дорогу болтает с Артисом по-латышски. Ему лет тридцать, русский язык, конечно, учил в школе, но теперь якобы не понимает. Плевать! Мы с Юркой с этим столкнулись ещё в Болгарии, где отдыхали прошлым летом. Хорошо что горничные, учившиеся когда-то в Союзе, взяли над нами шефство, на дикие пляжи водили, советские песни вместе пели под «Слынчев бряг». И здесь что-нибудь нарисуется.
Но пока глухо. На типографии мы встречаем холодный, деловой приём. Директриса хоть и улыбается, но взгляд кислый. Рядом пожилая женщина-технолог с поджатыми губами. Артис переводит. Не получается у них наша стохастика. Или залипает, или не пропечатывается. Хорошо что рядом Серёжа Кузьменко. Их с Кудерычем ведут в цех, чтобы посмотреть, в чём там дело.
А мы с директрисой остаёмся. И тут она легко переходит на русский. Я показываю наш издательский план, весьма насыщенный. Она впечатлена, предлагает сотрудничество напрямую. Оказывается, с Елгавской типографией тоже можно рассчитываться рублями. Это она Артиса отодвигает. Вот… а ещё свои…
Не прошло и часу, как наши орлы, раскрасневшиеся и возбуждённые, возвращаются в кабинет. За ними семенит женщина-технолог со свежими отпечатками в руках. Она что-то объясняет директрисе, Артис нам переводит. С таким растром они уже имели дело, был крупный немецкий заказчик, и тогда ничего не получалось. А теперь – всё отлично! Они благодарят за помощь.
– Там ерунда, краску сделал пожиже… Такая присадочка есть… Как знал, взял с собой, – шёпотом объясняет Кузьменко.
Хорошо, что не заговорили про его литовские корни. Выяснилось, что латыши с литовцами – страшные враги, ненавидят друг друга ещё больше, чем русских. Об этом нам позднее рассказал Артис. Для латыша он ведёт себя странно, что, впрочем, объясняется его ролью посредника.
Женщина-технолог предлагает посмотреть немецкую, полностью автоматизированную линию книжной сборки. Цех громадный, лентой едет транспортёр. С одного конца забирается печатный лист, складывается, брошюруется с другими, блок сшивается, а с другого конца подъезжает обложка, и вот, пожалуйста, книга готова. На этом дело не заканчивается, книжки сбиваются в пачку, заворачиваются в крафт-бумагу, перетягиваются пластиковой лентой, а сверху пришлёпываются этикетки. И всем управляет один человек. Артис старательно переводит, а мне даже слушать не хочется. Ведь понятно, что могли бы говорить по-русски. Или технолог по каким-то причинам им не владеет?
Мужчины уже вышли из цеха, а мы с ней задержались, и тут я спросила: «А у вас есть такая же линия твёрдого переплёта?». Одно мгновение она растерянно смотрит на меня, потом отвечает, как ни в чём не бывало: «Пока нет, но если мы наладим печать немецкому издательству, они обещают поставить». Говорит без акцента, русский язык явно родной. Да, запутали их, запугали…
– Ну, теперь наладите. Если что, мы Сергея пришлём, – я улыбаюсь и ускоряю шаг.
Интересное дело: директриса без свидетелей разговаривает по-русски, технолог без директрисы – тоже. Похоже, они друг друга опасаются.
Когда возвращались в Ригу, Марис включил кассетник, и я узнала песню Раймонда Паулса «Ещё не вечер», когда-то очень популярную. В эпоху моей юности её пела Лайма Вайкуле, с интимно пришепётывающим акцентом. Теперь песня звучит в бодрой современной обработке на латышском языке. Я сижу рядом с водителем и приговариваю: «Какие он мелодии сочинял! Вся страна пела!». Марис молчит, и я почти верю, что он мог за эти годы позабыть русский язык.
Когда на следующий день машина подъехала, чтобы отвезти нас на вокзал, шёл дождь, и мы простились с Артисом на пороге гостиницы. Как только все уселись, Марис достал из кармана кассету и протянул мне со словами: «Это вам, раз вы любите Раймонда». Я засмеялась, пожала ему руку. Всю дорогу мы болтали: сначала о музыке Паулса – Марис был его фанатом – потом о девочках Мариса, младшей скоро два, а старшая в пятом классе, красавица…
Остановившись на светофоре, он вдруг воскликнул: «Смотрите!». Дорогу неспешно переходил сам Раймонд Паулс, в тёмном, элегантном пальто и роговых очках. Он как будто материализовался из мелодий, звучавших в салоне, из разговоров о нём, из кассеты, заботливо надписанной Марисом: Raimonds Pauls, 1998. Шарф в серо-вишнёвую полоску летел за его спиной флагом неизвестной страны…
Домой мы вернулись страшно довольные. Нашли, наконец, подходящую типографию, помогли рижанам и завоевали их уважение – спасибо тебе, Кузьменко! Появилась надежда, что наши бывшие соседи за восемь лет своей независимости кое-что поняли. Что любая независимость не предполагает плевка в колодец, что прошлое всегда рядом.
Победный настрой был омрачён скверной новостью. Таня протянула мне свежий номер газеты «Коммерсант», развёрнутый на странице с заголовком «Тюменского депутата обвинили в организации убийства». Я слышала, что Дмитрия Филлипова, севшего на место Сергея Рогова, тоже грохнули, но эту новость заслонил дефолт, за которым потянулась целая волна убийств и самоубийств. Всё, что касалось наших учредителей, отошло в прошлое, где год за три, а значит, в далёкое прошлое.
Но про Владимира Васильевича Юдина вспоминала часто, как и обо всех тобольчанах: Валере Дашкевиче и его жене Оле, осевших в небольшом американском городке, о бывшем комбинатовском связисте Коле-Ване с Валечкой, живущих в Краснодаре.
Вот что было написано в «Коммерсанте»:
«Из Тюмени в Санкт-Петербург этапирован бывший гендиректор крупнейшего в России Тобольского нефтехимического комбината, депутат Тюменской областной думы Владимир Юдин. Его подозревают в организации убийства известного петербургского предпринимателя Дмитрия Филиппова».
Мои глаза бегут по строчкам, выхватывая главное. Прокуратуру заинтересовала одна из последних сделок Филлипова – приобретение крупного пакета акций Тобольского нефтехимического комбината… Через петербургское представительство (через Сергея Рогова!) он поставлял бензин и сырьё за границу. А потом решил приобрести и сам комбинат. Но здесь возникли проблемы, поскольку Юдин не давал разбазаривать собственность акционеров, ставил Филиппову палки в колёса. Тогда последний, как говорят на комбинате, «перекрыл ему кислород»: выручка стала застревать в Петербурге (опять же у Рогова, и наши деньги, которые мы должны были комбинату по лизингу, тоже!). Из крупнейшего налогоплательщика комбинат превратился в должника.
Расклад понятен. Когда медведя загоняют в угол, он впадает в агрессию. Особенно если других путей нет. Я бы тоже, наверно, расправилась со своими бывшими соратниками, кому доверяла и кто меня предал. Хотя, скорее всего, нет. Но мне и терять нечего. Да я и не Юдин.
Так нашёлся Владимир Васильевич. Совсем рядом с нами, в питерских «Крестах».
Но как будто на другой стороне земного шара.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО
Иногда задумываюсь: что толкает людей на подлость и предательство? Вот только что смотрели честно в глаза, хлеб-соль вместе вкушали, улыбались при встрече, говорили приятные слова. И вдруг…
А если не вдруг, и я просто не заметила этот переломный момент? Или никакой ломки не было, естественный ход событий – и вот уже вчерашние друзья (партнёры, коллеги) замышляют против тебя нечто гадкое. Или не против тебя, а для себя, и не гадкое, а очень даже им полезное? А то что тебе их действия обламывают крылья – чистая случайность. Так сказать, бизнес – ничего личного.
Это началось ещё до кризиса, через год после переезда в «Науку». В новом договоре стоимость аренды цеха вдруг выросла на треть. Иду на переговоры к нашим «красным директорам». Встречают ласково, с улыбкой: чай, кофе? Может, ошибка какая, спрашиваю. Нет, всё по закону. Мы вам сдавали запущенный цех, а теперь это офис с евроремонтом – более высокая ставка. Так мы же сами сделали ремонт, обалдеваю я от такой постановки вопроса. Ну, это был ваш выбор, а помещение в нынешнем виде стоит совсем других денег. Любой проверяющий заподозрит неладное.
Хотела сказать: да мы сейчас это всё размонтируем и увезём. Но куда? И не всё можно безболезненно отодрать. Да и срываться неохота – дом рядом, а тут всё же охрана, да и заказчики привыкли. Тогда вместе посмеялись над бдительным «проверяющим», и я бумагу подписала. Всё правильно – это бизнес. Они же видят, сколько к нам ходит клиентов.
Кстати, о клиентах. Разные люди бывают, некоторое, как Искандер Акчурин, чей журнал «Фудмаркет» мы верстаем и печатаем за границей, снобы ещё те. А им на охране говорят: откройте сумки. С типографии, видите ли, народ книги выносит и продаёт. Так начальство думает. А я полагаю, судя по такой же ситуации на «Полиграфоформлении», что не выносят, а вывозят машинами, и не народ, то бишь работяги, а товарищи рангом повыше. Наши заказчики обижены, жалуются, мы протестуем. Наконец, договорились – вахта не проверяет сумки у гостей «Русской коллекции».
В тот раз помогла служба безопасности. С ней теперь полное взаимопонимание. Василий Михайлович, что устроил мне выволочку на Выборгской таможне, а потом показательно «спас», подался охранять VIP-персон. А нам дали Сергея Николаевича, военного в отставке, и что немаловажно, умного, интеллигентного человека. Оперативно помогает и под «наезды» не подставляет, как это порой случается.
Руководство «Науки» на время успокоилось, но вдруг перестали нам плёнки заказывать – дорого, мол, будем сами печатать на кальке. Так качество же безобразное! Сойдёт, отвечают, зато дешевле. Мы снижаем им цены вдвое. И не потому что боимся заказчика потерять – ведь отдаём по цене материала, просто хотим оставаться партнёрами. Нет, всё равно дорого, отказались.
А по осени вызывает меня Никита Иванович и сообщает, что министерство поставляет им такую же технику, как у нас, так что надобно освободить помещение. И даёт три месяца на сборы и переезд. Так… этого следовало ожидать… Зависть печатников к допечатникам… Производственников к «белой косточке». Ещё и наших спецов начнут переманивать…
Я стала бегать по округе, помещение искать, да всё не то. Либо совсем временно сдают, либо ремонт требуется капитальный, либо третьи руки, а значит, без гарантий. Опять к Сергею Николаевичу кинулась, выручайте, мол.
Самое паршивое, что у нас на выходе юбилейный альбом «Ямал – грань веков и тысячелетий» – толстенный кирпич, которым можно убить. И, кстати, очень хочется. Но издание пока что в разобранном виде. Коля Самбуров чуть ли не поселился в издательстве, да ещё привёз с собой журналиста и автора книги Юрия Морозова. С его текстами намучились: что к чему – не разобрать, мешанина разрозненных статей. Структуры у издания никакой, надо самим придумывать. И вот теперь, когда дело пошло, макет согласован и вовсю идёт вёрстка, мы должны срываться неведомо куда.
Иду к нашим директорам. Бутылочку французского коньяка прихватила – для пущего взаимопонимания. Всё честно изложила: и про важный заказ, и про сложности с поиском помещения, но старые вояки знай одно твердят – самим надо. Так у вас площадей уйма, неужели не найдёте пятьдесят метров для новой техники? А мы хотим ваше использовать, такое же оборудование заказали, на те же места поставим. И конкуренты нам ни к чему…
Они почти не пили, а я на нервяках – рюмку за рюмкой. И когда уж никакой надежды не осталось, принялась умолять, всхлипывая и размазывая тушь по щекам. Никите Ивановичу хоть бы хны. Улыбается, по плечику треплет: ты девка пробивная, говорит, на улице не останешься. Им, мол, так удобно. И потом – они же хозяева!
Ну, погодите, думаю… отольются кошке мышкины слёзы…
Кинулась к Сергею Николаевичу. Он озабоченно хмурится. Если бы Кировский район, тогда без вопросов – хоть завтра, а Василеостровский тяжёлый, и зацепок нет. Но попробует. И вот ходим мы с ним по адресам, полученным в райисполкоме. То детский садик дают, только надо весь брать, а куда нам 500 метров? То закрытый завод, где заказчик обязан пропуск выписывать, а потом плутать в цехах.
Вдруг звонит Сергей Николаевич, и голос его необычно весёлый. Нашёл, говорит, помещение на 13-ой линии, очень интересное. Дом дореволюционный, строился как доходный, потом стал первым в Петрограде «Рабочим Жилищно-Строительным Кооперативом», над входом эмблема и буквы «РЖСК». Помещение хорошее: второй этаж, сто пятьдесят квадратов – бывший актовый зал клуба – плюс ещё столько же: подсобные комнатки. Лет семь назад там жилконтора была, теперь стоит бесхозное. Ремонт нужен, но первое время можно косметикой обойтись.
Тут же побежали смотреть. Фасад с псевдоколоннами, в арочном окне переплёт с пятиконечной звездой. Внутри всё какие-то каморки и выгородки, старая конторская мебель, пожелтевшие бланки документов валяются. Это ничего, это разберём, – Сергей Николаевич сам доволен находкой, а я… Я просто очарована, потому что гляжу на потолок. Он арочный, высотой метров восемь, с лепниной по центру, правда, сильно затянутой слоями побелки. А в торцах – два огромных, чуть ни во всю высоту, окна. Ну просто дворец!
Сергея Николаевича чмокаю в щёку и бегу сообщить своим, как нам необыкновенно повезло. На другой день он звонит и, похоже, смущён. Потому что есть проблемы. Этот бывший актовый зал кто-то всё же арендует. Да, фактически хозяина нет, оплаты тоже, но договор имеется. Так если не занимает, не ремонтирует и не платит, пусть расторгнут договор! В том-то и беда, что арендатора не найти. Но в любой момент возьмёт и появится. Что тогда?
Столько лет не появлялся и вдруг появится? Маловероятно. Но без договора начинать нельзя. Мы отремонтируем, переедем со всем оборудованием, а он – тут как тут: спасибо, граждане, все свободны. Есть такой риск, подтверждает Сергей Николаевич, может, поискать что-то другое?
Но я уже влюблена в этот зал и, несмотря на разруху и перегородки, отчётливо вижу белые ламбрекены на окнах, арочную высь потолка с висящей бронзовой люстрой, лакированный дубовый паркет. Оказалось, там ещё есть сцена, которую придётся демонтировать. И красную звезду вместе с разбитым окном и гнилыми рамами убрать, а ещё укрепить арку потолка, лепнину отмыть. Да много чего сделать придётся.
Мы всё же отвоевали этот «храм искусства». Сергей Николаевич вцепился и не отпускал. Только с ремонтом дело не шло. Все присылаемые им бригады не брались за потолок или сроки называли немыслимые. А попробую-ка я обратиться к Эрмитажным мастерам, ведь столько изданий для музея сделали… И всё получилось! Нам прислали бригаду женщин, которые уверенно и быстро собрали высокие ко?злы и принялись отмывать лепнину.
СОЮЗ С БЫВШИМИ
Буквально ещё полгода назад печать в Финляндии была выгодна во всех отношениях. Теперь, когда курс финской марки стал расти вслед за долларом, интерес пропал. Но в России печатать наши престижные издания и вовсе невозможно. Лучшая типография «Ивана Фёдорова» практически встала, сдаёт площади в аренду. Остальные хоть и берутся, но качества не держат, а цена такая же, как у финнов. Ссылаются на пошлины и налоги, мол, бумагу и краску ввозят из-за рубежа. А куда деваться? Своя промышленность разорена.
Остаётся Прибалтика. Обзвонив несколько типографий, приходим в уныние: по-русски никто не желает разговаривать, да и вообще нам явно не рады. И тут, когда руки уже совсем опустились, возник некий Артис Эрглис, приехавший из Риги для налаживания связей с питерскими издательствами.
Артис – владелец небольшого печатного производства, но при необходимости может пристроить наш заказ на любую типографию Латвии. У него открыт счёт в Москве, можем платить в рублях. Он раскладывает на столе прекрасные образцы печати, но что по стоимости? Первый же расчёт показал – мы получаем ту же цену в рублях, по которой печатали у финнов до скачка курса! Это весьма кстати. Как раз заканчивается вёрстка трёх альбомов с целым набором полиграфических изысков: стохастика, печать на кальке, выборочное лакирование, – реализация которых возможна лишь за рубежом.
Стохастика – это такой частотно-модулированный растр, который… Короче, изображение получается как супер-фото – видна всякая мелочь толщиной в волосок. Что крайне важно для альбома «Холодное оружие народов Кавказа», где чуть не на каждой странице клинки с затейливыми гравировками. Тираж этой книги мы и поручили Артису, договорившись приехать и посмотреть сигнальные экземпляры.
К упомянутому растру мы имеем прямое отношение. Дело в том, что «Русская коллекция» – опытная площадка Полиграфического института, сотворившего этот самый стохастический растр. Посему с нами отправляют институтского технолога Сергея Кузьменко. Он родом из Литвы, в чём мы видим хороший знак: прибалты скорее друг с другом договорятся, ежели что. Кудерыч с Кузьменко уже спелись на почве стохастики, поскольку вместе ведут исследования. Оба высоченные, только Кузьменко моложе и молчаливее.
В Риге нас встречает Артис, и мы отправляемся на старейшую в Латвии Елгавскую типографию. Ехать сорок четыре километра. Водитель Марис всю дорогу болтает с Артисом по-латышски. Ему лет тридцать, русский язык, конечно, учил в школе, но теперь якобы не понимает. Плевать! Мы с Юркой с этим столкнулись ещё в Болгарии, где отдыхали прошлым летом. Хорошо что горничные, учившиеся когда-то в Союзе, взяли над нами шефство, на дикие пляжи водили, советские песни вместе пели под «Слынчев бряг». И здесь что-нибудь нарисуется.
Но пока глухо. На типографии мы встречаем холодный, деловой приём. Директриса хоть и улыбается, но взгляд кислый. Рядом пожилая женщина-технолог с поджатыми губами. Артис переводит. Не получается у них наша стохастика. Или залипает, или не пропечатывается. Хорошо что рядом Серёжа Кузьменко. Их с Кудерычем ведут в цех, чтобы посмотреть, в чём там дело.
А мы с директрисой остаёмся. И тут она легко переходит на русский. Я показываю наш издательский план, весьма насыщенный. Она впечатлена, предлагает сотрудничество напрямую. Оказывается, с Елгавской типографией тоже можно рассчитываться рублями. Это она Артиса отодвигает. Вот… а ещё свои…
Не прошло и часу, как наши орлы, раскрасневшиеся и возбуждённые, возвращаются в кабинет. За ними семенит женщина-технолог со свежими отпечатками в руках. Она что-то объясняет директрисе, Артис нам переводит. С таким растром они уже имели дело, был крупный немецкий заказчик, и тогда ничего не получалось. А теперь – всё отлично! Они благодарят за помощь.
– Там ерунда, краску сделал пожиже… Такая присадочка есть… Как знал, взял с собой, – шёпотом объясняет Кузьменко.
Хорошо, что не заговорили про его литовские корни. Выяснилось, что латыши с литовцами – страшные враги, ненавидят друг друга ещё больше, чем русских. Об этом нам позднее рассказал Артис. Для латыша он ведёт себя странно, что, впрочем, объясняется его ролью посредника.
Женщина-технолог предлагает посмотреть немецкую, полностью автоматизированную линию книжной сборки. Цех громадный, лентой едет транспортёр. С одного конца забирается печатный лист, складывается, брошюруется с другими, блок сшивается, а с другого конца подъезжает обложка, и вот, пожалуйста, книга готова. На этом дело не заканчивается, книжки сбиваются в пачку, заворачиваются в крафт-бумагу, перетягиваются пластиковой лентой, а сверху пришлёпываются этикетки. И всем управляет один человек. Артис старательно переводит, а мне даже слушать не хочется. Ведь понятно, что могли бы говорить по-русски. Или технолог по каким-то причинам им не владеет?
Мужчины уже вышли из цеха, а мы с ней задержались, и тут я спросила: «А у вас есть такая же линия твёрдого переплёта?». Одно мгновение она растерянно смотрит на меня, потом отвечает, как ни в чём не бывало: «Пока нет, но если мы наладим печать немецкому издательству, они обещают поставить». Говорит без акцента, русский язык явно родной. Да, запутали их, запугали…
– Ну, теперь наладите. Если что, мы Сергея пришлём, – я улыбаюсь и ускоряю шаг.
Интересное дело: директриса без свидетелей разговаривает по-русски, технолог без директрисы – тоже. Похоже, они друг друга опасаются.
Когда возвращались в Ригу, Марис включил кассетник, и я узнала песню Раймонда Паулса «Ещё не вечер», когда-то очень популярную. В эпоху моей юности её пела Лайма Вайкуле, с интимно пришепётывающим акцентом. Теперь песня звучит в бодрой современной обработке на латышском языке. Я сижу рядом с водителем и приговариваю: «Какие он мелодии сочинял! Вся страна пела!». Марис молчит, и я почти верю, что он мог за эти годы позабыть русский язык.
Когда на следующий день машина подъехала, чтобы отвезти нас на вокзал, шёл дождь, и мы простились с Артисом на пороге гостиницы. Как только все уселись, Марис достал из кармана кассету и протянул мне со словами: «Это вам, раз вы любите Раймонда». Я засмеялась, пожала ему руку. Всю дорогу мы болтали: сначала о музыке Паулса – Марис был его фанатом – потом о девочках Мариса, младшей скоро два, а старшая в пятом классе, красавица…
Остановившись на светофоре, он вдруг воскликнул: «Смотрите!». Дорогу неспешно переходил сам Раймонд Паулс, в тёмном, элегантном пальто и роговых очках. Он как будто материализовался из мелодий, звучавших в салоне, из разговоров о нём, из кассеты, заботливо надписанной Марисом: Raimonds Pauls, 1998. Шарф в серо-вишнёвую полоску летел за его спиной флагом неизвестной страны…
Домой мы вернулись страшно довольные. Нашли, наконец, подходящую типографию, помогли рижанам и завоевали их уважение – спасибо тебе, Кузьменко! Появилась надежда, что наши бывшие соседи за восемь лет своей независимости кое-что поняли. Что любая независимость не предполагает плевка в колодец, что прошлое всегда рядом.
Победный настрой был омрачён скверной новостью. Таня протянула мне свежий номер газеты «Коммерсант», развёрнутый на странице с заголовком «Тюменского депутата обвинили в организации убийства». Я слышала, что Дмитрия Филлипова, севшего на место Сергея Рогова, тоже грохнули, но эту новость заслонил дефолт, за которым потянулась целая волна убийств и самоубийств. Всё, что касалось наших учредителей, отошло в прошлое, где год за три, а значит, в далёкое прошлое.
Но про Владимира Васильевича Юдина вспоминала часто, как и обо всех тобольчанах: Валере Дашкевиче и его жене Оле, осевших в небольшом американском городке, о бывшем комбинатовском связисте Коле-Ване с Валечкой, живущих в Краснодаре.
Вот что было написано в «Коммерсанте»:
«Из Тюмени в Санкт-Петербург этапирован бывший гендиректор крупнейшего в России Тобольского нефтехимического комбината, депутат Тюменской областной думы Владимир Юдин. Его подозревают в организации убийства известного петербургского предпринимателя Дмитрия Филиппова».
Мои глаза бегут по строчкам, выхватывая главное. Прокуратуру заинтересовала одна из последних сделок Филлипова – приобретение крупного пакета акций Тобольского нефтехимического комбината… Через петербургское представительство (через Сергея Рогова!) он поставлял бензин и сырьё за границу. А потом решил приобрести и сам комбинат. Но здесь возникли проблемы, поскольку Юдин не давал разбазаривать собственность акционеров, ставил Филиппову палки в колёса. Тогда последний, как говорят на комбинате, «перекрыл ему кислород»: выручка стала застревать в Петербурге (опять же у Рогова, и наши деньги, которые мы должны были комбинату по лизингу, тоже!). Из крупнейшего налогоплательщика комбинат превратился в должника.
Расклад понятен. Когда медведя загоняют в угол, он впадает в агрессию. Особенно если других путей нет. Я бы тоже, наверно, расправилась со своими бывшими соратниками, кому доверяла и кто меня предал. Хотя, скорее всего, нет. Но мне и терять нечего. Да я и не Юдин.
Так нашёлся Владимир Васильевич. Совсем рядом с нами, в питерских «Крестах».
Но как будто на другой стороне земного шара.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО
Иногда задумываюсь: что толкает людей на подлость и предательство? Вот только что смотрели честно в глаза, хлеб-соль вместе вкушали, улыбались при встрече, говорили приятные слова. И вдруг…
А если не вдруг, и я просто не заметила этот переломный момент? Или никакой ломки не было, естественный ход событий – и вот уже вчерашние друзья (партнёры, коллеги) замышляют против тебя нечто гадкое. Или не против тебя, а для себя, и не гадкое, а очень даже им полезное? А то что тебе их действия обламывают крылья – чистая случайность. Так сказать, бизнес – ничего личного.
Это началось ещё до кризиса, через год после переезда в «Науку». В новом договоре стоимость аренды цеха вдруг выросла на треть. Иду на переговоры к нашим «красным директорам». Встречают ласково, с улыбкой: чай, кофе? Может, ошибка какая, спрашиваю. Нет, всё по закону. Мы вам сдавали запущенный цех, а теперь это офис с евроремонтом – более высокая ставка. Так мы же сами сделали ремонт, обалдеваю я от такой постановки вопроса. Ну, это был ваш выбор, а помещение в нынешнем виде стоит совсем других денег. Любой проверяющий заподозрит неладное.
Хотела сказать: да мы сейчас это всё размонтируем и увезём. Но куда? И не всё можно безболезненно отодрать. Да и срываться неохота – дом рядом, а тут всё же охрана, да и заказчики привыкли. Тогда вместе посмеялись над бдительным «проверяющим», и я бумагу подписала. Всё правильно – это бизнес. Они же видят, сколько к нам ходит клиентов.
Кстати, о клиентах. Разные люди бывают, некоторое, как Искандер Акчурин, чей журнал «Фудмаркет» мы верстаем и печатаем за границей, снобы ещё те. А им на охране говорят: откройте сумки. С типографии, видите ли, народ книги выносит и продаёт. Так начальство думает. А я полагаю, судя по такой же ситуации на «Полиграфоформлении», что не выносят, а вывозят машинами, и не народ, то бишь работяги, а товарищи рангом повыше. Наши заказчики обижены, жалуются, мы протестуем. Наконец, договорились – вахта не проверяет сумки у гостей «Русской коллекции».
В тот раз помогла служба безопасности. С ней теперь полное взаимопонимание. Василий Михайлович, что устроил мне выволочку на Выборгской таможне, а потом показательно «спас», подался охранять VIP-персон. А нам дали Сергея Николаевича, военного в отставке, и что немаловажно, умного, интеллигентного человека. Оперативно помогает и под «наезды» не подставляет, как это порой случается.
Руководство «Науки» на время успокоилось, но вдруг перестали нам плёнки заказывать – дорого, мол, будем сами печатать на кальке. Так качество же безобразное! Сойдёт, отвечают, зато дешевле. Мы снижаем им цены вдвое. И не потому что боимся заказчика потерять – ведь отдаём по цене материала, просто хотим оставаться партнёрами. Нет, всё равно дорого, отказались.
А по осени вызывает меня Никита Иванович и сообщает, что министерство поставляет им такую же технику, как у нас, так что надобно освободить помещение. И даёт три месяца на сборы и переезд. Так… этого следовало ожидать… Зависть печатников к допечатникам… Производственников к «белой косточке». Ещё и наших спецов начнут переманивать…
Я стала бегать по округе, помещение искать, да всё не то. Либо совсем временно сдают, либо ремонт требуется капитальный, либо третьи руки, а значит, без гарантий. Опять к Сергею Николаевичу кинулась, выручайте, мол.
Самое паршивое, что у нас на выходе юбилейный альбом «Ямал – грань веков и тысячелетий» – толстенный кирпич, которым можно убить. И, кстати, очень хочется. Но издание пока что в разобранном виде. Коля Самбуров чуть ли не поселился в издательстве, да ещё привёз с собой журналиста и автора книги Юрия Морозова. С его текстами намучились: что к чему – не разобрать, мешанина разрозненных статей. Структуры у издания никакой, надо самим придумывать. И вот теперь, когда дело пошло, макет согласован и вовсю идёт вёрстка, мы должны срываться неведомо куда.
Иду к нашим директорам. Бутылочку французского коньяка прихватила – для пущего взаимопонимания. Всё честно изложила: и про важный заказ, и про сложности с поиском помещения, но старые вояки знай одно твердят – самим надо. Так у вас площадей уйма, неужели не найдёте пятьдесят метров для новой техники? А мы хотим ваше использовать, такое же оборудование заказали, на те же места поставим. И конкуренты нам ни к чему…
Они почти не пили, а я на нервяках – рюмку за рюмкой. И когда уж никакой надежды не осталось, принялась умолять, всхлипывая и размазывая тушь по щекам. Никите Ивановичу хоть бы хны. Улыбается, по плечику треплет: ты девка пробивная, говорит, на улице не останешься. Им, мол, так удобно. И потом – они же хозяева!
Ну, погодите, думаю… отольются кошке мышкины слёзы…
Кинулась к Сергею Николаевичу. Он озабоченно хмурится. Если бы Кировский район, тогда без вопросов – хоть завтра, а Василеостровский тяжёлый, и зацепок нет. Но попробует. И вот ходим мы с ним по адресам, полученным в райисполкоме. То детский садик дают, только надо весь брать, а куда нам 500 метров? То закрытый завод, где заказчик обязан пропуск выписывать, а потом плутать в цехах.
Вдруг звонит Сергей Николаевич, и голос его необычно весёлый. Нашёл, говорит, помещение на 13-ой линии, очень интересное. Дом дореволюционный, строился как доходный, потом стал первым в Петрограде «Рабочим Жилищно-Строительным Кооперативом», над входом эмблема и буквы «РЖСК». Помещение хорошее: второй этаж, сто пятьдесят квадратов – бывший актовый зал клуба – плюс ещё столько же: подсобные комнатки. Лет семь назад там жилконтора была, теперь стоит бесхозное. Ремонт нужен, но первое время можно косметикой обойтись.
Тут же побежали смотреть. Фасад с псевдоколоннами, в арочном окне переплёт с пятиконечной звездой. Внутри всё какие-то каморки и выгородки, старая конторская мебель, пожелтевшие бланки документов валяются. Это ничего, это разберём, – Сергей Николаевич сам доволен находкой, а я… Я просто очарована, потому что гляжу на потолок. Он арочный, высотой метров восемь, с лепниной по центру, правда, сильно затянутой слоями побелки. А в торцах – два огромных, чуть ни во всю высоту, окна. Ну просто дворец!
Сергея Николаевича чмокаю в щёку и бегу сообщить своим, как нам необыкновенно повезло. На другой день он звонит и, похоже, смущён. Потому что есть проблемы. Этот бывший актовый зал кто-то всё же арендует. Да, фактически хозяина нет, оплаты тоже, но договор имеется. Так если не занимает, не ремонтирует и не платит, пусть расторгнут договор! В том-то и беда, что арендатора не найти. Но в любой момент возьмёт и появится. Что тогда?
Столько лет не появлялся и вдруг появится? Маловероятно. Но без договора начинать нельзя. Мы отремонтируем, переедем со всем оборудованием, а он – тут как тут: спасибо, граждане, все свободны. Есть такой риск, подтверждает Сергей Николаевич, может, поискать что-то другое?
Но я уже влюблена в этот зал и, несмотря на разруху и перегородки, отчётливо вижу белые ламбрекены на окнах, арочную высь потолка с висящей бронзовой люстрой, лакированный дубовый паркет. Оказалось, там ещё есть сцена, которую придётся демонтировать. И красную звезду вместе с разбитым окном и гнилыми рамами убрать, а ещё укрепить арку потолка, лепнину отмыть. Да много чего сделать придётся.
Мы всё же отвоевали этот «храм искусства». Сергей Николаевич вцепился и не отпускал. Только с ремонтом дело не шло. Все присылаемые им бригады не брались за потолок или сроки называли немыслимые. А попробую-ка я обратиться к Эрмитажным мастерам, ведь столько изданий для музея сделали… И всё получилось! Нам прислали бригаду женщин, которые уверенно и быстро собрали высокие ко?злы и принялись отмывать лепнину.