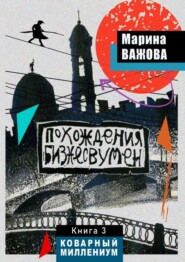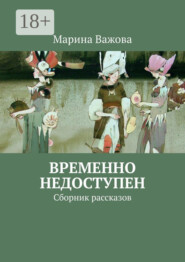По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Любаха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Любаха
Марина Важова
Это рассказ о девочке Любе, Любахе, пережившей блокаду благодаря помощи доктора, а главное – своему лёгкому, деятельному характеру. Именно он всегда вытаскивает Любаху, помогает ей выжить. Она предстаёт перед читателем то девочкой, то девушкой, то прикованной к постели старухой, для которой прошлое реальнее, чем настоящее. Воспоминания вплетаются в явь событий, герои прошлого находятся рядом. Они ждут, они надеются…
Любаха
Марина Важова
Редактор Екатерина Буланина
Фотограф Борис Кудряков
© Марина Важова, 2018
© Борис Кудряков, фотографии, 2018
ISBN 978-5-4485-5111-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1. Батя
– Любка, посмотри, ушёл отец?
Голос матери. Бежать скорее: ведь если он ушёл, то на фабрику за получкой. И тут Любаха – не последний человек. Сам он получку не донесёт и вообще не придёт сегодня домой. Будет шататься по своим друзьям, «дружочкам», пока не завалится где-нибудь.
Если Любка упустит его уход… Но такого уже года два не бывало, чтобы она не пошла за батькой. Поначалу крадучись, по другой стороне улицы, с нарочно взятой корзинкой, в которой мамка приносит яйца от погорелок. Потом – ближе к фабричным баракам – следом идет как ни в чём не бывало. И почти у самой конторы догоняет и, забегая вперёд, весёлую рожу строит. Мол, ты ведь понимаешь, батя, я полностью на твоей стороне, тоже люблю погулять и к «дружочкам» с тобой могу сходить. Но маманька просит… Ты ведь знаешь, больна она, чахотка, ей масло нужно, ви-та-ми-ны. А ты у нас один. Так что не обижайся, слышь? И за руку его берет, будто он маленький, а она большая.
Батя, он что? Он ничего и никогда. Слова грубого или упрёков от него не бывает. Вот рассказать что смешное или душевное, тут он мастак. Или утешать. Никто так не может утешать, как наш батя. Мамка прямо говорит: «Ты меня одним утешением взял». Ещё отец петь любит, почитай, слова всех песен знает. Кто бы ни запел – куплет да припев, а остального не помнят. А батяня всё помнит, будто в его голове записи сделаны. Голос не сильный, но правильный, мелодию не врёт.
Только теперь, если он дома поёт, стало быть, пьяный. А тогда нам не до песен, прикидываем, как теперь месяц прожить. Ведь батя только с получки и напивается, а так – ни боже мой. Мастер он хороший, начальство его ценит, чуть что: «Иван Казимирович, зайдите к главному инженеру поскорее». А это значит лишь одно: у главного инженера что-то стряслось, и только наш отец ему способен помочь. Потом премию бате дадут. С премии Любахе всегда гостинец. Конфеты, к примеру, или слойки. Да и так, без премии, если батю не упустить, обязательно в продмаг зайдём. Только отец скажет просяще: «Любах, тебе ирисок, а мне две кружки пива, идет?» Пива можно, оно недорогое, и мамка сердиться не будет. Лишь пошутит, как вернутся: «Ну что, заговорщики, натрескались?»
Только как же это мамка может шутить? Она ж померла, ещё до войны. Чахотка её успокоила, совсем успокоила. Скромненький крест на старом кладбище, могилка у самой речки Смоленки. Так ведь и батьки нет. Бомбой его в сорок втором зацепило, когда за лошадью подбитой пошёл: «Всё, девки, скоро сыты будем. У Ижорской заставы конягу подстрелили мессера. Надо скорее бечь, пока не пронюхали, мясцом запасаться». Вот и добегался. Сам сгинул, так и не нашли, не схоронили. Люди видели, как всё было, рассказали. А то бы числился в «безвестипропавших».
И как он в эту байку поверил? Ведь ребёнку ясно – никакой лошади в помине нет. Все они уж давно съедены. Нет, не все, оказывается. Лошадь маршала Будённого на законном отдыхе, у маршала на даче травку щипала. Вернее, сено, ведь зима. А тут приспичило её переводить. В целях государственной безопасности. Через весь город вели – и ничего. А как к заставе подходить стали – мессера внезапно налетели и стрелять. Прямо в голову той лошади, она повалилась и лежит. А сопровождающий искать телефон принялся, чтоб доложить о кончине. Потому никто и не знает про лошадь, что секретная она.
Вот враки, слушать невозможно, до чего батька поглупел после мамкиной смерти. Верит в сказки, да ещё сам их придумывает. Только нам-то как теперь? Мне, Нинке и Насте? Мы ведь одни, ни отца, ни матери. Крёстная в круглосуточном дежурстве на седьмой ТЭЦ, остальные все эвакуировались и самовар с собой взяли. Ни еды, ни горячего, ни дров, а ведь декабрь только – до весны далеко. Холодно, холодно-то как! Дует отовсюду. Остается только лежать под ворохом тряпья и ждать. А чего ждать-то? Ведь не придет никто, так и замёрзнем.
Нет, кто-то идет. Шаги по лестнице. А если пройдут мимо, что тогда? Кричать, звать надо. Вдруг это санитары проверяют, нет ли мёртвых по квартирам. Только крика не получается. Сип и тоненький вой. Шаги всё ближе, идут сюда, слава богу. Лишь бы дверь открыли, мимо не прошли. «И-и-и-и…» Вот дверь заскрипела, и такой родной, такой знакомый голос:
– Ну что, Любаха, чего ты распелась?
Всё же батя, родненький, вернулся живой и несёт что-то в руках – Любахе несёт поесть. Ну, теперь жить будем, теперь всё плохое позади. Батя жив – наврали про бомбу, – лошади кусок достался, запах вкусный такой по всей комнате. Где там Нинка, Настя? Вставайте, лодырницы!..
– Давай, Любаха, садись, поедим. Кашу будешь?
– Батя, ты?!
– Я, я, а кто же ещё? Так будешь кашу? Вчера просила, вот и сварили. Пшённую с тыквой, как ты любишь…
Сорока-воровка кашу варила,
На порог скакала, гостей созывала.
Гости не бывали, каши не едали,
Сорокину кашу Любахе отдали.
Нет, не батькин голос, хоть и знакомый. Но ведь кто-то рядом сидит, ложку ей в руку суёт, а в другую – хлеба кусок. Хлеб настоящий, сухой, а душистый! Как до войны. И каша в миске почти рядом с лицом. Там масло – его Любаха хорошо видит – жёлтое, не совсем растаяло, но это ещё и лучше: можно ложкой зачерпнуть и съесть так. Вкуснотища!
– А другие уже поели?
– Поели, Любаха, все поели, одна ты осталась. Давай ешь, ведь вкусно?
– Очень вкусно, очень. Спасибо.
Но батей называть не стоит. Скорее всего – не батя это вовсе. Знакомый человек, наверно, тут и живёт. И добрый. Вон сколько каши принёс, ей и не съесть сразу. Да и спать так охота…
– Ну, поспи, поспи, Любаха.
По голове так легонечко погладил и ушёл вроде. Полежать тихонько, будто сплю. Если ушёл, надо встать и посмотреть, оставил он кашу или нет. И где он её взял, а главное – хлеб! Хлеб довоенный, свежий и мягкий такой. Если с собой унёс, плохо. Вряд ли ещё раз принесёт, ведь голод кругом, ой какой голод! И холодно, ноги-руки заледенели…
– А наши все где? – надо спросить, вдруг не ушёл ещё.
– Федор в армии, Вовчик на теннис ушёл, – неожиданно отзывается. Значит, сидел тихонько, прислушивался. – Соня с классом в Питер на экскурсию поехала, а Томася на работе.
Всё каких-то незнакомых называет – точно не батя. Это его родня, а мои-то, мои: Настя, и Нинка, и Ленка, она на торфоразработках, редко приезжает. А вдруг приехала? Табачку привезла, самокрутки крутить будем, накуримся, чтобы есть не так хотелось.
– А Ленка-то не приехала?
– Какая Ленка? Что ты, Любаха, никакой Ленки у нас нет, спи. Я пойду, тоже лягу, после ночной поспать надо. Так что ты не очень-то шуми. Я зайду ещё.
Тихо. Ушёл, значит. Теперь скорее встать и поискать, куда он кашу и хлеб положил. Вот только встать никак не получается. Тряпья на неё столько навалено, что не выбраться. А ты не торопись, Любка, не спеши, потихонечку. Вот одну ногу вытащила и с кровати спустила. Теперь вторую освобождай. Ну, вставай, вставай! Что ж ты расселась, искать надо, куда еда спрятана. Руками оттолкнись от кровати и иди. Да господи же, совсем от голода обессилела, ни встать, ни подняться! Так и помереть недолго. Ладно, полежать немного, сил набраться и вставать. Встану, встану, всегда вставала и сегодня встану. Только отдохну сначала.
Им, большим, хорошо. Рабочая карточка – это двести пятьдесят граммов хлеба. Почти в два раза больше, чем Любахина иждивенческая. Скорее бы работать пойти. К бате на фабрику ученицей – сразу рабочую дадут, а потом и усиленный паёк, как крёстной за то, что она сутками со своей ТЭЦ не вылезает.
Вот придут они с батей в отдел кадров, а там уже про неё знают и ждут. Смена, что ли, пришла? Это Марья Петровна так Любку «сменой» зовёт. А теперь и правда смена, раз ученицей берут. С батей, конечно, было бы лучше, но у него дело тонкое, надо учиться много, чтобы всё знать. Он ведь наладчик, а это всё равно что инженер, только ещё почётней, рабочие профессии все почётные.
Можно на красильщицу выучиться – ткани красить в разные цвета, а можно на ворсовщицу, они больше получают, там работа вредная, пыли ворсовой много. Зато молоко дают. В цеху станки в три ряда стоят, и за каждым две работницы. Одной никак не успеть, станки работают быстро, тянут ткань с рулона на рулон, а сверху железными щётками потряхивают, концы у них крючком загнуты, ворс поднимают и начёсывают. Следить надо, чтобы ткань равномерно шла, да чтобы в ворс ничего не попало и пропуска не было. Внимательно нужно смотреть, а чуть что – останавливать и исправлять. Но Любаха справится, лишь бы взяли. Там, кроме хлеба, затируху дают, бывает, что и с кукурузной мукой. Да масло раз в месяц полстакана, из чего – непонятно, но все же на нём можно картошку мороженую поджарить. Только вряд ли она осталась, эта картошка, еще до зимы всю подъели…
Сейчас вздремну, силы восстановлю и пойду искать, где хлеб и каша. Сказал, что зайдёт ещё, да обманывает, наверно. Зачем ему худая, бессильная девчонка, вся в поносе и вшах? Или это у Нинки вши и понос? Всё путается, ничего голова не держит. Вот ведь как получилось… А мечтала о балете, в кино сниматься. Всё они, фашисты, измором хотят взять, да только не на тех напали, не отломится им ничего. Ничего. Ничего…
***
В отличие от своих младших сестёр-двойняшек Томы и Лёли, Маруся всю жизнь прожила с бабушкой в городе, а к маме надолго приезжала только летом. Так совпало: мамина новая семья, отсутствие жилья и Марусина внезапная тяжёлая болезнь. Мама с новым мужем, дядей Сашей, переехали в областную глушь без врачей и школы.
Бабушка вцепилась в Марусю и категорически отказалась её отпускать. А смерть нового братика Лёвушки, названного в честь пропавшего без вести бабушкиного сына, подтвердила её мрачные опасения. Лёвушка умер от крупозного воспаления лёгких, принятого по ошибке врачами скорой помощи за дизентерию. Эта смерть упрочила бабушкины позиции, и никто уже больше никогда не заговаривал о том, чтобы Марусю маме отдать. Хотя и школа в посёлке появилась, и медпункт. Тень годовалого брата, умершего из-за неправильного диагноза, высилась не только над Марусей с её пороком сердца, но и над новорожденными маленькими двойняшками, которых бабушка, не будь их двое, обязательно бы забрала себе.
Всё детство мама для Маруси была как праздничная фея, которая возникала внезапно и своей волшебной палочкой начинала творить чудеса. У Маруси появлялись новые платья, сшитые мамиными руками, хорошее покупное пальто, а не потёртые на обшлагах коротковатые пальтухи, переданные от дальних родственников бабушки. Но главное, конечно, не вещи – бог с ними! – главное, что какое-то время она ощущала мамину любовь, окрашенную чувством вины и потому особенно нежную.
Марина Важова
Это рассказ о девочке Любе, Любахе, пережившей блокаду благодаря помощи доктора, а главное – своему лёгкому, деятельному характеру. Именно он всегда вытаскивает Любаху, помогает ей выжить. Она предстаёт перед читателем то девочкой, то девушкой, то прикованной к постели старухой, для которой прошлое реальнее, чем настоящее. Воспоминания вплетаются в явь событий, герои прошлого находятся рядом. Они ждут, они надеются…
Любаха
Марина Важова
Редактор Екатерина Буланина
Фотограф Борис Кудряков
© Марина Важова, 2018
© Борис Кудряков, фотографии, 2018
ISBN 978-5-4485-5111-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1. Батя
– Любка, посмотри, ушёл отец?
Голос матери. Бежать скорее: ведь если он ушёл, то на фабрику за получкой. И тут Любаха – не последний человек. Сам он получку не донесёт и вообще не придёт сегодня домой. Будет шататься по своим друзьям, «дружочкам», пока не завалится где-нибудь.
Если Любка упустит его уход… Но такого уже года два не бывало, чтобы она не пошла за батькой. Поначалу крадучись, по другой стороне улицы, с нарочно взятой корзинкой, в которой мамка приносит яйца от погорелок. Потом – ближе к фабричным баракам – следом идет как ни в чём не бывало. И почти у самой конторы догоняет и, забегая вперёд, весёлую рожу строит. Мол, ты ведь понимаешь, батя, я полностью на твоей стороне, тоже люблю погулять и к «дружочкам» с тобой могу сходить. Но маманька просит… Ты ведь знаешь, больна она, чахотка, ей масло нужно, ви-та-ми-ны. А ты у нас один. Так что не обижайся, слышь? И за руку его берет, будто он маленький, а она большая.
Батя, он что? Он ничего и никогда. Слова грубого или упрёков от него не бывает. Вот рассказать что смешное или душевное, тут он мастак. Или утешать. Никто так не может утешать, как наш батя. Мамка прямо говорит: «Ты меня одним утешением взял». Ещё отец петь любит, почитай, слова всех песен знает. Кто бы ни запел – куплет да припев, а остального не помнят. А батяня всё помнит, будто в его голове записи сделаны. Голос не сильный, но правильный, мелодию не врёт.
Только теперь, если он дома поёт, стало быть, пьяный. А тогда нам не до песен, прикидываем, как теперь месяц прожить. Ведь батя только с получки и напивается, а так – ни боже мой. Мастер он хороший, начальство его ценит, чуть что: «Иван Казимирович, зайдите к главному инженеру поскорее». А это значит лишь одно: у главного инженера что-то стряслось, и только наш отец ему способен помочь. Потом премию бате дадут. С премии Любахе всегда гостинец. Конфеты, к примеру, или слойки. Да и так, без премии, если батю не упустить, обязательно в продмаг зайдём. Только отец скажет просяще: «Любах, тебе ирисок, а мне две кружки пива, идет?» Пива можно, оно недорогое, и мамка сердиться не будет. Лишь пошутит, как вернутся: «Ну что, заговорщики, натрескались?»
Только как же это мамка может шутить? Она ж померла, ещё до войны. Чахотка её успокоила, совсем успокоила. Скромненький крест на старом кладбище, могилка у самой речки Смоленки. Так ведь и батьки нет. Бомбой его в сорок втором зацепило, когда за лошадью подбитой пошёл: «Всё, девки, скоро сыты будем. У Ижорской заставы конягу подстрелили мессера. Надо скорее бечь, пока не пронюхали, мясцом запасаться». Вот и добегался. Сам сгинул, так и не нашли, не схоронили. Люди видели, как всё было, рассказали. А то бы числился в «безвестипропавших».
И как он в эту байку поверил? Ведь ребёнку ясно – никакой лошади в помине нет. Все они уж давно съедены. Нет, не все, оказывается. Лошадь маршала Будённого на законном отдыхе, у маршала на даче травку щипала. Вернее, сено, ведь зима. А тут приспичило её переводить. В целях государственной безопасности. Через весь город вели – и ничего. А как к заставе подходить стали – мессера внезапно налетели и стрелять. Прямо в голову той лошади, она повалилась и лежит. А сопровождающий искать телефон принялся, чтоб доложить о кончине. Потому никто и не знает про лошадь, что секретная она.
Вот враки, слушать невозможно, до чего батька поглупел после мамкиной смерти. Верит в сказки, да ещё сам их придумывает. Только нам-то как теперь? Мне, Нинке и Насте? Мы ведь одни, ни отца, ни матери. Крёстная в круглосуточном дежурстве на седьмой ТЭЦ, остальные все эвакуировались и самовар с собой взяли. Ни еды, ни горячего, ни дров, а ведь декабрь только – до весны далеко. Холодно, холодно-то как! Дует отовсюду. Остается только лежать под ворохом тряпья и ждать. А чего ждать-то? Ведь не придет никто, так и замёрзнем.
Нет, кто-то идет. Шаги по лестнице. А если пройдут мимо, что тогда? Кричать, звать надо. Вдруг это санитары проверяют, нет ли мёртвых по квартирам. Только крика не получается. Сип и тоненький вой. Шаги всё ближе, идут сюда, слава богу. Лишь бы дверь открыли, мимо не прошли. «И-и-и-и…» Вот дверь заскрипела, и такой родной, такой знакомый голос:
– Ну что, Любаха, чего ты распелась?
Всё же батя, родненький, вернулся живой и несёт что-то в руках – Любахе несёт поесть. Ну, теперь жить будем, теперь всё плохое позади. Батя жив – наврали про бомбу, – лошади кусок достался, запах вкусный такой по всей комнате. Где там Нинка, Настя? Вставайте, лодырницы!..
– Давай, Любаха, садись, поедим. Кашу будешь?
– Батя, ты?!
– Я, я, а кто же ещё? Так будешь кашу? Вчера просила, вот и сварили. Пшённую с тыквой, как ты любишь…
Сорока-воровка кашу варила,
На порог скакала, гостей созывала.
Гости не бывали, каши не едали,
Сорокину кашу Любахе отдали.
Нет, не батькин голос, хоть и знакомый. Но ведь кто-то рядом сидит, ложку ей в руку суёт, а в другую – хлеба кусок. Хлеб настоящий, сухой, а душистый! Как до войны. И каша в миске почти рядом с лицом. Там масло – его Любаха хорошо видит – жёлтое, не совсем растаяло, но это ещё и лучше: можно ложкой зачерпнуть и съесть так. Вкуснотища!
– А другие уже поели?
– Поели, Любаха, все поели, одна ты осталась. Давай ешь, ведь вкусно?
– Очень вкусно, очень. Спасибо.
Но батей называть не стоит. Скорее всего – не батя это вовсе. Знакомый человек, наверно, тут и живёт. И добрый. Вон сколько каши принёс, ей и не съесть сразу. Да и спать так охота…
– Ну, поспи, поспи, Любаха.
По голове так легонечко погладил и ушёл вроде. Полежать тихонько, будто сплю. Если ушёл, надо встать и посмотреть, оставил он кашу или нет. И где он её взял, а главное – хлеб! Хлеб довоенный, свежий и мягкий такой. Если с собой унёс, плохо. Вряд ли ещё раз принесёт, ведь голод кругом, ой какой голод! И холодно, ноги-руки заледенели…
– А наши все где? – надо спросить, вдруг не ушёл ещё.
– Федор в армии, Вовчик на теннис ушёл, – неожиданно отзывается. Значит, сидел тихонько, прислушивался. – Соня с классом в Питер на экскурсию поехала, а Томася на работе.
Всё каких-то незнакомых называет – точно не батя. Это его родня, а мои-то, мои: Настя, и Нинка, и Ленка, она на торфоразработках, редко приезжает. А вдруг приехала? Табачку привезла, самокрутки крутить будем, накуримся, чтобы есть не так хотелось.
– А Ленка-то не приехала?
– Какая Ленка? Что ты, Любаха, никакой Ленки у нас нет, спи. Я пойду, тоже лягу, после ночной поспать надо. Так что ты не очень-то шуми. Я зайду ещё.
Тихо. Ушёл, значит. Теперь скорее встать и поискать, куда он кашу и хлеб положил. Вот только встать никак не получается. Тряпья на неё столько навалено, что не выбраться. А ты не торопись, Любка, не спеши, потихонечку. Вот одну ногу вытащила и с кровати спустила. Теперь вторую освобождай. Ну, вставай, вставай! Что ж ты расселась, искать надо, куда еда спрятана. Руками оттолкнись от кровати и иди. Да господи же, совсем от голода обессилела, ни встать, ни подняться! Так и помереть недолго. Ладно, полежать немного, сил набраться и вставать. Встану, встану, всегда вставала и сегодня встану. Только отдохну сначала.
Им, большим, хорошо. Рабочая карточка – это двести пятьдесят граммов хлеба. Почти в два раза больше, чем Любахина иждивенческая. Скорее бы работать пойти. К бате на фабрику ученицей – сразу рабочую дадут, а потом и усиленный паёк, как крёстной за то, что она сутками со своей ТЭЦ не вылезает.
Вот придут они с батей в отдел кадров, а там уже про неё знают и ждут. Смена, что ли, пришла? Это Марья Петровна так Любку «сменой» зовёт. А теперь и правда смена, раз ученицей берут. С батей, конечно, было бы лучше, но у него дело тонкое, надо учиться много, чтобы всё знать. Он ведь наладчик, а это всё равно что инженер, только ещё почётней, рабочие профессии все почётные.
Можно на красильщицу выучиться – ткани красить в разные цвета, а можно на ворсовщицу, они больше получают, там работа вредная, пыли ворсовой много. Зато молоко дают. В цеху станки в три ряда стоят, и за каждым две работницы. Одной никак не успеть, станки работают быстро, тянут ткань с рулона на рулон, а сверху железными щётками потряхивают, концы у них крючком загнуты, ворс поднимают и начёсывают. Следить надо, чтобы ткань равномерно шла, да чтобы в ворс ничего не попало и пропуска не было. Внимательно нужно смотреть, а чуть что – останавливать и исправлять. Но Любаха справится, лишь бы взяли. Там, кроме хлеба, затируху дают, бывает, что и с кукурузной мукой. Да масло раз в месяц полстакана, из чего – непонятно, но все же на нём можно картошку мороженую поджарить. Только вряд ли она осталась, эта картошка, еще до зимы всю подъели…
Сейчас вздремну, силы восстановлю и пойду искать, где хлеб и каша. Сказал, что зайдёт ещё, да обманывает, наверно. Зачем ему худая, бессильная девчонка, вся в поносе и вшах? Или это у Нинки вши и понос? Всё путается, ничего голова не держит. Вот ведь как получилось… А мечтала о балете, в кино сниматься. Всё они, фашисты, измором хотят взять, да только не на тех напали, не отломится им ничего. Ничего. Ничего…
***
В отличие от своих младших сестёр-двойняшек Томы и Лёли, Маруся всю жизнь прожила с бабушкой в городе, а к маме надолго приезжала только летом. Так совпало: мамина новая семья, отсутствие жилья и Марусина внезапная тяжёлая болезнь. Мама с новым мужем, дядей Сашей, переехали в областную глушь без врачей и школы.
Бабушка вцепилась в Марусю и категорически отказалась её отпускать. А смерть нового братика Лёвушки, названного в честь пропавшего без вести бабушкиного сына, подтвердила её мрачные опасения. Лёвушка умер от крупозного воспаления лёгких, принятого по ошибке врачами скорой помощи за дизентерию. Эта смерть упрочила бабушкины позиции, и никто уже больше никогда не заговаривал о том, чтобы Марусю маме отдать. Хотя и школа в посёлке появилась, и медпункт. Тень годовалого брата, умершего из-за неправильного диагноза, высилась не только над Марусей с её пороком сердца, но и над новорожденными маленькими двойняшками, которых бабушка, не будь их двое, обязательно бы забрала себе.
Всё детство мама для Маруси была как праздничная фея, которая возникала внезапно и своей волшебной палочкой начинала творить чудеса. У Маруси появлялись новые платья, сшитые мамиными руками, хорошее покупное пальто, а не потёртые на обшлагах коротковатые пальтухи, переданные от дальних родственников бабушки. Но главное, конечно, не вещи – бог с ними! – главное, что какое-то время она ощущала мамину любовь, окрашенную чувством вины и потому особенно нежную.