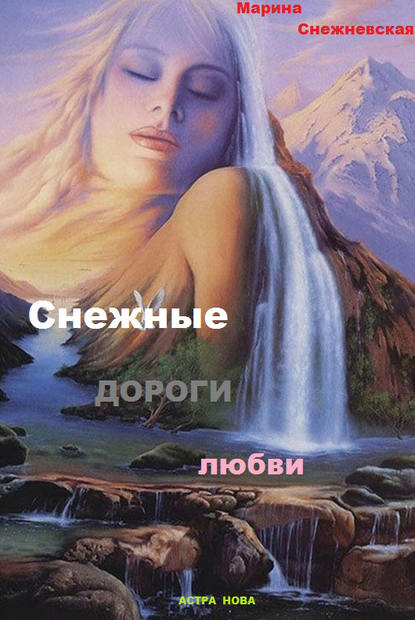По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Снежные дороги судьбы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Напротив маленькой боковой двери была свалена куча мусора – должно быть дворники несли свою службу из рук вон плохо. Марта направилась к парадному, минуя гипсовых львов, и крутанула тронутую зеленью медную ручку звонка.
Прошло довольно много времени, прежде чем дверь открылась.
– Чего вам?
На пороге стояла средних лет женщина, завернутая в долгополый малиновый халат, державшая в костлявых пальцах недокуренную тонкую папироску. В воздухе висел кухонный чад и еще какой-то несвежий, затхлый запах. Присыпанные ранней сединой волосы были заплетены в бумажные папильотки. Выглядела женщина неважно – как поношенная потрепанная шуба мещанского фасона.
– Добрый день, сударыня! – вежливо поздоровалась Марта. Я послана к господину Подымову. Он живет здесь, не так ли? – тщательно подбирая слова сообщила горничная.
– А вы, любезная, кто будете? – хмуро осведомилась тетка, обдав её застарелым перегаром и табачным дымком.
– Я Марта Роот, прислуга в доме купца первой гильдии Баранцова – сухо сообщила девушка.
– Марта значит, – тетка пожевала губами словно в раздумье. Из чухонцев? А по-русски Марфа, так?
Марта молча кивнула.
– Ну а я вот буду Фотиния. Фотиния Климовна Дольник – вдова коллежского регистратора Дольника. Здешняя стало быть домовладелица…
– Господин Подымов ведь тут живет? – как можно больше тверже осведомилась Марта, не имевшая желания слишком долго продолжать разговор.
– Так он уже не живет.
Марта невольно охнула.
– Да ничего страшного, – успокоила ее Фотиния Климовна. Говорю – у меня не живет. Жил, – отрывисто уточнила госпожа домовладелица. Что верно то верно – жил. Уехал сударь Подымов. Почти три недели назад. В один день собрался, и сел на пароход. Кажись в Гамбург. Сорвался как ошпаренный…
– В Гамбург? А зачем?? – растерянно осведомилась Марта.
– Да мне-то откуда знать? – непритворно обиделась женщина. Он мне между прочим задолжал – и деньги и… – неприятная змеиная улыбка тронула вялые губы – еще кое-что, что мужчины обычно норовят всучить нашей сестре задаром…
– Вот как! – пробормотала Марта в легкой растерянности. Марья Михайловна вот послала меня узнать, что с господином Подымовым, не болен ли он…
– Ну за это, милочка, можно не беспокоится, – многозначительно усмехнулась квартирная хозяйка – три недели тому он был здоров, как бык. Могу сие засвидетельствовать! – она опять неприятно улыбнулась. Кстати, – спохватилась она – он оставил у меня письмо – как раз для твоей госпожи, милочка, и попросил его отправить. Я еще не успела это сделать, так что если ты действительно пришла от этой… мадам Марии, то я отдам его – так и быть. Подожди немножко, милочка…. Женщина вскоре вернулась с конвертом.
– Вот оно.
Марта взяла письмо, принужденно улыбнулась.
– Благодарю, госпожа Фотиния!
Губы женщины в ответ тоже расползлись в невеселую улыбку.
– Не стоит благодарностей. Лучше бы, Марфуша, твоя хозяйка вернула мне те семь рублей с полтиной которые этот господинчик кроме всего прочего остался мне должен. Ха! – она затянулась папироской. Вряд ли я увижу эти деньги когда-нибудь. Да и его самого. Про него-то не особо жалею – а вот полуимпериал целый – это беда…. * Марта нахмурилась и, не простившись, направилась прочь, прикидывая – где тут ближайшая станция конки.
* * *
Остановившимися глазами Мария смотрела на четвертушку дешевой бумаги. Дмитрий бежал. Уехал. Исчез.
Перед глазами плясал его ровный, аккуратный почерк.
«Любимая моя Машенька, я чувствую себя последним подлецом, оставляя тебя после того что случилось между нами. Но прошу – пойми и прости. Я попросил свою квартирную хозяйку отправить это письмо и надеюсь, что оно благополучно попало к тебе в руки. Я не говорю о воле твоего отца – но я намерен доказать что он не прав.
Я собираюсь разбогатеть, Маша и поэтому отправляюсь на Аляску. Я чувствую, что мне должно повезти. В конце концов – чему-то я выучился в этом Горном институте? А потом я вернусь в Россию, осыплю тебя золотом, мы поженимся и будем жить счастливо. Любимая, пойми, я не могу всю жизнь чувствовать себя твоим бедным родственником и не иметь возможности дать тебе все, что ты только пожелаешь. Прошу тебя обо одном – лишь дождись меня…».
Письмо на этом не кончалось, но у Марии не было сил читать дальше. Она вспоминала его руки, такие страстные и умелые, его тело, его глаза… Девушка поймала себя на том, что яростно сжимает в руке злосчастное письмо… Ровный знакомый почерк изменился до неузнаваемости и поплыл перед глазами. Он отправился на эту дьявольски далекую Аляску, что лежит на другом краю света! Он хочет пересечь океан и целый континент, горы и ледники и стать золотоискателем как её покойный отец. И не собирался возвращаться до тех пор, пока не разбогатеет. Мария заплакала. Ведь могут пройти годы, прежде чем любимый вернется!
…Она не помнила, как закончился этот день. Она заставила себя поужинать, встать с постели и сделать несколько шагов по комнате – не может же она провести оставшуюся жизнь в постели.
А вечером зашла тетя Капитолина и сообщила, что на завтра назначено оглашение завещания.
* * *
На следующий день все собрались на оглашение отцовской духовной в кабинете отца – большой комнате, отделанной мореным дубом и пропахшей кожей и крепким табаком. Большой стол, керосиновая лампа с зеленым абажуром, книжные шкафы под потолок. Книг тут было много и вовсе не для красоты – Михаил Еремеевич может не все но многие из них прочел. Девушка тоже любила читать, а отец бывал в кабинете нечасто – поэтому он давно стал ее любимым местом. А теперь ей было невыносимо видеть все это и знать, что папенька больше никогда не войдет сюда! В помещении собрались все домашние.
Слуги – Марта, Глаша, дворник Андрон ради такого случая надевший свои медали, и другие – они тоже были приглашены – ведь и им хозяин что-то оставлял. Их лица, как заметила Мария, были торжественны и серьезны.
Тут были и душеприказчики – два партнера отца по торговым делам – вырицкий купец Антип Ефремов, и белобрысый светлоглазый торговец тканями Иван Руммо – из обрусевших финнов.
Лишь Корф заставлял себя ждать – с утра он был на бирже.
Нотариус Самуил Аронович Гольдштейн был сух и корректен – он вот уже пятнадцать лет был поверенным отца и ничего не могло его смутить в исполнении своего профессионального долга.
Наконец Корф появился. На нем был элегантный сюртук, который плотно облегал его сильное, хотя и хотя огрузневшее за годы конторской жизни, тело. Нотариус начал:
– Теперь вы появились, господин Корф, и я могу…
– Приступайте, – бросил Виктор Петрович.
Маше было не по себе от его взгляда. Он смотрел на нее, как на свою собственность – и увы – имел на это основания.
«Я, Михаил Еремеев Баранцов, находясь в здравом уме и твердой памяти и желая сделать распоряжение относительно наследования моего имущества, движимого и недвижимого…»
Она не слушала. Зачем? Последняя воля отца была жестокой, несправедливой, бессмысленной. Но батюшка умер прежде, чем успел изменить то, что написал как она верила по ошибке – и ничего теперь не поделаешь.
Гольдштейн закончил читать. Лицо Корфа было по прежнему бесстрастным.
Маша поднялась, не в силах больше выносить происходящего.
Произнеся какие то обычные в таких случаях ничего не значащие слова она вышла из кабинета.
Батюшка умер, а его последняя воля продолжала жить и избежать её было невозможно. Девушка добрела до лестницы и схватилась за перила, чтобы подняться к себе наверх и побыть в одиночестве. В это время кто-то поймал ее за руку.
– Мария Михайловна! Вы куда?
Это был Корф. Она слышала голоса в кабинете и с ужасом подумала, что все домашние еще там, в том числе слуги, и никто не придет ей на помощь.
– Пожалуйста, Виктор Петрович, сделайте милость – оставьте меня…