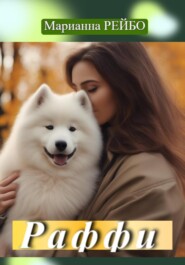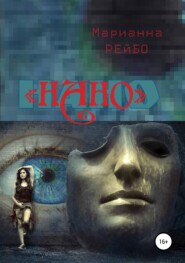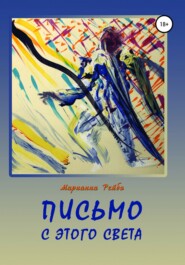По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Письмо с этого света
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, я не видел. Я только слышал звук поцелуя.
В воздухе на полминуты повисла пауза.
– А теперь ты мне скажи, это же не настоящий пистолет? – осторожно поинтересовался я.
– Да что ты?..
Он резко откинул руку в сторону дальней стены и собрался нажать на курок.
– Стой! Ты совсем идиот?! Сейчас все соседи повыскакивают!
Все же он пояснил, что пистолет пневматический. Словно разом лишившись сил, Андрей бросил его на ступеньку и понурил голову. Его трясло. Стало ясно: пришло время ответного наступления. Я принял оскорбленный вид и железным тоном стал допытываться, с чего вдруг ему ударило в голову шпионить за мной. Он стал уверять, что увидел нас случайно, а пистолет взял потому, что они с другом в этот день собирались сходить пострелять в тир. Я не верил ни одному слову. В конце концов он признался, что интуитивно заподозрил неладное и решил пробежаться по району без особой надежды меня встретить.
– Я уже собирался идти домой, когда увидел вас.
Но мне, на самом деле, не так уж важны были его объяснения. Момент настал, я это чувствовал. Отведя взгляд в сторону, я безэмоционально заговорил о том, что между нами все кончено. Я так увлекся собственной речью о бессмысленности отношений без доверия, что не сразу заметил, как плечи Андрея затряслись и он, прикрыв лицо ладонями и склонившись к коленям, заплакал как ребенок.
– Я покончу с собой… застрелюсь… – доносились до меня глухие звуки его голоса.
– Давай-давай, а я после этого уйду в монастырь и буду оплакивать тебя всю жизнь, – саркастически парировал я.
Но при этих словах сердце заныло от жалости и страха за него.
Мгновение поколебавшись, я положил руку ему на затылок и ласково, по-матерински стал поглаживать его коротко остриженные волосы. Через пару минут мы уже бурно целовались, прося друг у друга прощенья. Он шептал, что не переживет расставания, я уверял, что никогда его не брошу. Его руки судорожно сжимались вокруг моей талии, быстро и умело двигались под кофтой, и меня охватило желание немедленно отдаться ему, прямо здесь, на лестнице. Но мы не стали этого делать. Попрощавшись, мы разошлись, делая вид, что инцидент исчерпан. Но поганое чувство, что все безнадежно испорчено, осталось у обоих.
Мы продолжили встречаться, и вроде бы все стало по-прежнему. Но упреки и подозрения в мой адрес звучали теперь все чаще, и я понимал, что меня не простили, хотя отпускать и не собираются. Я же за собой вины не чувствовал (или почти не чувствовал), мне просто стало невыносимо скучно.
Сколько мог, я боролся. Боролся с собственным эго, беспощадно давя в себе нарастающее раздражение. Но оно оказалось сильнее. Организм начал отторгать навязываемые ему ласки, все мое «я» восставало против ежедневного насилия над самим собой. Но я все еще надеялся, что это не более чем кризис отношений, который вот-вот «рассосется». Я продолжал повторять слова любви и клятвы верности, исправно исполнял все неписаные обязательства и покорно отдавался на любовном ложе, пока однажды не почувствовал непреодолимое желание отравиться. Желание уйти из жизни стало почти осязаемым. Я с наслаждением чувствовал в пище привкус яда, который угодливо подсыпало туда мое воображение, и с надеждой ждал предсмертных спазмов. Но в действительности подсыпать яда у меня не было ни смелости, ни возможности.
Сейчас понимаю, как хорошо, что я оказался таким трусом. Отравись я тогда, вот насмешил бы наших. Херувимы и серафимы животики бы надорвали от смеха, явись я к ним отравившимся. Да и сам Старикан наверняка не смог бы отказать себе в удовольствии отвесить мне очередного хорошего пинка под визг и улюлюканье блаженных прихвостней…
16
Я медленно и расторопно, по одной перебирал хрустящие зеленые купюры с изображением Бенджамина Франклина. Как и многие другие семьи, пережившие дефолт 1998-го, деньги мы держали в условных единицах в банке – стеклянной банке из-под варенья, для конспирации завернув их в несколько слоев пожелтевшей газетной бумаги. Этот неприкосновенный валютный запас предназначался вроде бы на черный день, однако мы его не тронули даже в тяжелые времена после кончины отца.
Я никогда не отличался ни жадностью, ни расточительностью и не чувствовал потребности располагать личными деньгами, превышающими карманные расходы на перекус в забегаловке или проезд на общественном транспорте. Но иногда я не мог отказать себе в удовольствии тайком достать заветную банку из шкафа и разложить перед собой ее содержимое. Я получал странное удовольствие от прикосновения к деньгам, хотя и не испытывал потребности их потратить. Они нравились мне сами по себе, их шелест, запах, плотность, еле ощутимая шершавость. Я пересчитывал их снова и снова, хотя уже давно знал конечную сумму. Подобно четкам, стодолларовые бумажки помогали мне расслабиться и сконцентрироваться на размышлениях.
Этот раз был особенным. Впервые я извлек деньги из банки с определенным намерением, которому еще только предстояло оформиться в окончательный план, но к активной реализации которого я приступил уже несколько недель назад. Впервые, разворачивая газетную бумагу, я не просто развлекался, но совершал преступление – так как знал, что деньги в банку больше не вернутся…
За мной лет с тринадцати водился грешок. Я писал стихи. Витиеватые, чувственные и откровенно плохие. Я был достаточно умен для того, чтобы знать им истинную цену, но достаточно глуп, чтобы продолжать писать их в надежде рано или поздно выродить что-то путное. Всего однажды я попробовал прочитать несколько своих стихотворений матери, но по ее вытянувшимся в струнку губам понял, что мои творческие потуги не были оценены по достоинству. Какое-то время спустя она поинтересовалась, не написал ли я что-нибудь новое. В ответ я соврал, что это был случайный экспромт и что листки со стихами я потерял, равно как и интерес к их написанию. «А, ну и слава богу!», – прозвучал ее ответ, короткий и звонкий как пощечина.
Внешне не подав виду, в душе я был так ошарашен и уязвлен, что, и правда, на какое-то время прекратил свои стихотворные упражнения. Но что-то внутри меня продолжало складывать рифмы и чеканить размер, назойливо стучась в висок в поиске выхода. К моменту, о котором я рассказываю, у меня набралась целая тетрадь стихов под грифом «сгодится», не считая тех наколеночных сочинений, которые сразу отправлялись в мусорное ведро. Пожалуй, в этой тетради не было ни одного стихотворения, которое нравилось бы мне целиком. Но в некоторых из них я находил отдельные строчки, которыми втайне гордился.
А жизнь идет вперед, а время все летит,
Невидимая дрожь по телу пробежит.
А за окном дождинки стучат по тротуару,
А за окном снежинки танцуют под гитару…
«А это очень даже ничего», – думал я, и мой внутренний гений весело отплясывал ламбаду.
Решение было принято внезапно. То ли явилось во сне, то ли я уже давно его вынашивал, сам себе в этом не признаваясь, только однажды утром я проснулся с четким пониманием того, что именно мне нужно сделать.
Шло самое горячее время – пересдача заваленных в прошлом году экзаменов. Казалось, на этот раз удача на моей стороне. Я набрал достаточное количество баллов, чтобы продолжить борьбу за место в облюбованном моей матерью вузе. Но в самый ответственный момент, всех обманув, я не стал относить документы в университет.
Ритуально пересчитав хрустящие купюры, я любовно спрятал выкраденные деньги в потайной карман сумки и начал по-партизански собирать пожитки. Дождавшись, когда мать уйдет, я написал короткую записку шокирующего содержания и, подбадривая свой боевой дух радужными картинами независимого будущего, покатил чемодан к лифту, на первый этаж, за двери подъезда, все дальше и дальше от родимого дома.
Меня ждал ночной поезд на Москву.
17
В поезде я не мог заснуть. Лежал и слушал, как колеса вагона ведут счет: раз-два, три-четыре; раз-два, три-четыре. Словно хронометр, они отсчитывали время в пути. Время, не принадлежавшее ни прошлому, ни будущему.
Дорога дарит столь любимое мною состояние невесомости. Межвременье, в котором ощущаешь себя полностью свободным от жизни. Ничего не происходит, все будто замерло.
Я лежал на нижней полке, развернувшись лицом к окну, и рассеянно наблюдал, как электропровода скачут то вверх, то вниз на фоне розовеющего неба. До прибытия оставалось еще часа три. Достаточно, чтобы подумать о том, что делать дальше. Например, где я буду ночевать следующей ночью, после того как подам документы в Московский институт литературы и критики имени Л.Н. Толстого. Но думать получалось плохо. Голова была пустой и чистой, как небо за окном вагона-плацкарта. Вокруг было полно людей, большинство спали, кто-то кашлял, кто-то тихо шуршал пакетами, но я не ощущал их присутствия, привычно опустив вокруг себя стекла незримого бокса. Я был один перед лицом вселенной. Я смотрел ей в самое нутро, по капле впитывая вечность. Я снова находился на пределе самосознания. Но на этот раз я чувствовал себя бессмертным.
О своем намерении навеки покинуть не только родной дом, но и город, в котором он находится, я сообщил матери короткой запиской, оставленной на кухонном столе. Я не стал ни оправдываться, ни просить прощения, ни входить в детали. Лишь сообщил, что буду учиться в Москве, на кого – дело мое, и чтобы она не пыталась сама меня искать. Я сам выйду на связь, когда буду готов к этому.
Первым делом я сменил сим-карту, лишив таким образом мать и – в первую очередь – Андрея возможности связаться со мной по телефону. На самом деле я вовсе не хотел подвергать маму такому испытанию и, безусловно, рассказал бы ей все уже в прощальном письме, не будь я уверен, что Андрей измором выпытает у нее, где я и что со мной. Зная, как искусно Андрей умеет давить на болевые точки и манипулировать чувством жалости, я не сомневался: стоит мне сообщить матери, где меня искать, как они оба будут тут как тут.
Задачей номер два было как-то обезопасить свои скромные капиталы. Зайдя в банк, я перевел на карту почти всю имевшуюся наличность, оставив только мелочь на карманные расходы. Уже через два часа я убедился, что это было наимудрейшее из моих спонтанных решений. Стоило войти в комнату хостела, где мне предстояло провести, возможно, не одну ночь, как стало ясно: среди шестнадцати возможных постояльцев общего номера я буду в национальном и социальном меньшинстве. Вернее, номер – это громко сказано. Скорее барак, до отказа напичканный двухэтажными койками и снабженный одним общим душем и туалетом. Комнату наполнял резкий запах кислой капусты и каких-то восточных приправ, которыми, казалось, было пропитано все вокруг. По соседству с доставшейся мне кроватью спал азиат, растянувшись на койке прямо в одежде и выставив из-под покрывала желто-серые мозолистые пятки. Я заглянул в его запрокинутое плоское лицо, словно перекошенное затаенным испугом, и почувствовал, что вот-вот потеряю сознание…
Но выбирать не приходилось. Отдельный номер в гостинице был мне не по карману, и все надежды я возлагал на институтское общежитие. Словно в полусне, я запихал чемодан под кровать, благо красть оттуда было нечего, и сразу же отправился подавать документы в литературный вуз. В Москве я был впервые и всегда хотел ее увидеть. Помимо цены, единственным плюсом моего «постоялого двора» было его месторасположение: в самом центре, в получасе ходьбы от Кремля и с видом на одну из главных артерий города – Новый Арбат. До института также было недалеко – минут двадцать пешком. Погода улыбалась во весь солнечный рот, маслянистые листья деревьев весело шелестели под ветром, разливая щемящий сердце запах лета. Но я не видел ничего. Лишь путался в лабиринтах московских переулков и пытался совладать с нарастающим волнением. Когда я подходил к старому желтому зданию в стиле классицизма, сердце билось уже где-то в горле, а голова шла кругом от переизбытка кислорода, который я глотал все быстрее и резче. Что будет, если у меня не примут документы или я не пройду по баллам? Что делать, если мне не предоставят бесплатного жилья? Ехать обратно в Питер? Вернуться на щите из бесславного похода, попасть под домашний арест и пытки слезами и укорами? Нет! Лучше умереть! умереть! умереть!..
18
Тайком про себя я молился. Наверное, молился. Вообще я чуждался религии и относился к религиозным людям с недоверием. Мне казалось, их вера всё равно, что ноющий зуб, о котором они не могут забыть ни на минуту и не дают забыть окружающим, держа их в постоянном напряжении и заставляя чувствовать себя как будто в чем-то виноватыми. Куда больше я симпатизировал людям неверующим или же верующим, что называется, по-своему. То есть теребившим высшие силы только по исключительным поводам. Себя я относил скорее к атеистам, хотя в детстве мать и пыталась привить мне любовь к Богу. Не скажу, что она была по-настоящему религиозной, а после смерти отца и вовсе растеряла всякую набожность вместе с интересом к жизни. Однако из раннего детства сохранились воспоминания, как пару раз она водила меня в церковь и пыталась своими словами пересказывать библейские мифы. Она говорила, что Боженька – это тот, кто нас создал и теперь неустанно следит за нами. «– И за мной? – Да, всегда». Эти слова надолго засели у меня в голове. Что бы я ни делал, я словно чувствовал на себе взгляд кого-то невидимого, и это доставляло мне немало беспокойства. Особенно мне это не нравилось в минуты, скажем так, сугубо личные. Мысленно я пытался устыдить Бога, чтобы он перестал всё время подглядывать, ведь в конце концов это неприлично. Но он меня не слушал, оставаясь на позициях неусыпного, но безразличного наблюдателя, так что постепенно я с ним свыкся и начал о нем забывать.
Чем старше я становился, тем менее правдоподобными казались мне религиозные верования, а идея загробной жизни и вовсе мнилась абсурдной и абсолютно непривлекательной. Я хотел жить здесь и сейчас, в эпицентре земного бытия, и Бог для этого мне был не нужен. Тем не менее в важные минуты жизни я мысленно обращался с просьбой к кому-то незримому, приводя массу доводов, почему мне это так необходимо, и стараясь быть при этом как можно убедительнее. Если я получал свое, я тут же забывал о проделанном внутреннем монологе, равно как и обо всем, что наобещал во время оного. Если же чаяния мои оказывались напрасными – страшно обижался на этого кого-то, обвиняя его в равнодушии и несправедливости.
Так и на этот раз я уговаривал незримого кого-то, ожидая сначала на скамье у двери приемной комиссии, а затем у кабинета начальника общежития, бессмысленно наблюдая за бегущими мимо туфлями, ботинками и кедами. И, как никогда, я был раздавлен услышанными ответами, несмотря на то, что у них была и положительная сторона. Баллов, полученных мною при повторной сдаче госстандарта, было достаточно для поступления на бюджетное отделение сразу после творческого конкурса, причем без дополнительных экзаменов. Это был, конечно, плюс. Но здесь же скрывался убийственный минус – рассчитывать на общежитие я мог не раньше начала учебного года. Остальным абитуриентам, даже иногородним, это было все равно: сел на поезд и – ту-ту! – домой до первого сентября. Мне же надо было найти хоть какое-нибудь мало-мальски приличное жилье – перекантоваться летние месяцы. Найти срочно! Еще пара ночей в хостеле с добрым десятком соседей из дружественных республик, и я, наверное, сошел бы с ума.
Потрясенный первой неудачей, я сидел упершись локтями в колени и, запустив пальцы в шевелюру, нервно дергал себя за волосы. Со стороны эта поза наверняка выглядела презабавно, хотя мне самому было не до смеха. Я клял кого-то невидимого за никчемность и ругал себя последними словами. Надо же так сдурить, поехать в чужой город, не имея там ни одного знакомого! И даже не удосужиться как следует все разузнать, найти заранее комнату. Гроши в карман – и приехали! И что теперь прикажете делать?..
– Девушка, позвольте я вас спасу!
Я вздрогнул, пробужденный от горестных мыслей этим неожиданным звонкоголосым окликом и оторвал взгляд от елочки паркета.
Передо мной стоял средневековый рыцарь с развевающимися волосами и бородой, в блистающих доспехах, с мечом в руке.
Хотя на самом деле его каштановые волосы не развивались, а лишь лохматились в художественном беспорядке, небольшая бородка была аккуратно подстрижена, а вместо лат красовались черная косуха из грубой кожи, серые полотняные брюки и темно-синий джемпер крупной вязки. Да и правая рука его поигрывала вовсе не Эскалибуром, а всего лишь ключами от машины. Но от его широкого скуластого лица и крепкой, коренастой фигуры на меня дохнуло Средневековьем, словно от музейного гобелена. Зеленые, по-кошачьи прозрачные глаза оглядывали меня с добродушной смешинкой и успокаивающей уверенностью.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: