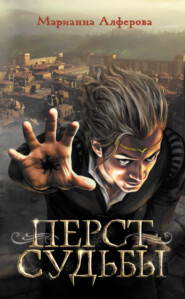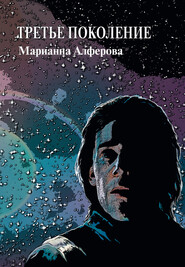По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Орудие Судьбы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В Ниене есть обычай. Если парень хочет быть с девушкой, то дарит ей монету, чтобы…
– Ты что, меня за шлюху принял? А? – Она резко вскакивает. Едва не падает, опирается рукой о кровать. – Я не такая!
– Это не плата, Касенька, это просто обычай…
– Да плевать на обычай! В Ниене все бабы шлюхи, отдаются первому встречному, как только покажет монету. А я не такая. Нет!
Не помню, как я схватил серебрушку и, зажав в потной ладони, скатился вниз. Щеки мои горели. Вся кожа горела, будто ее облили кислотой. В своей комнатке я кинулся на кровать, закрыв лиц руками. Кася, Кася… Она плюнула мне в лицо. Бедная, вообразила, что ей дозволено наносить удары в ответ на мою доброту. С полчаса я лежал так, будто горел на костре. Потом вскочил. Я должен ее наказать, наказать за неблагодарность. Неблагодарных надо наказывать. Я знал это с самого малого детства, с того мига, как только начал ходить. Меня всегда наказывали за неблагодарность.
Я спустился вниз. Стоял во дворе, озираясь. Отец как-то высек Каську за разбитую кружку. Привязал к телеге, приказал развязать лиф, стащил рубаху до пояса. Потом бил розгами. Сильно, до крови. Мы все прибежали смотреть: я, Викер, матушка, Нара. Каська визжала, причитала, плакала. Когда она дергалась, были видны ее груди, большие, похожие на груши, странно большие для ее худого костлявого тела.
– А ведь девка врала мне, что ей шестнадцать, – вздохнула матушка, качая головой. – Наверняка уже все двадцать, и судя по грудям, рожавшая. Не бывает в шестнадцать у девчонок таких грудей.
Сейчас, стоя во дворе, я вспомнил недавнюю порку, и матушкины слова. А ведь я тогда бегал к аптекарю, и брал у него мазь Каське для спины – за три грошика своих личных, и потом передал Наре. И внизу, лежа в постели слышал, как стонет и плачет Каська, когда у нее со спины соскребают прилипшую рубашонку, а потом рубцы мажут мазью.
Да, так было, и да, жалость была и есть, но я должен ее усовестить.
И я придумал, как именно.
Глава 2. Наказание
В свой выходной она всякий раз направлялась к родне в подгородную деревушку. Выходила засветло, а возвращалась уже в темноте. Деревушка стояла не на Большой северной дороге, а на проселке, что уходил в сторону от главного тракта. Здесь, на развилке, я и решил ее поджидать. Заранее изготовил из крепкой рябины посох. А чтобы палка в моих руках смотрелась неслучайно, выйдя из дома, изображал хромоту, припадая на правую ногу. Лицо обвязал старым бабкиным платком, чтобы меня не узнали, и вместо обычной своей куртки надел обноски, которые матушка велела передать из милости Гимеру. Я всегда все продумывал в отличие от того же Викера. Пришел на развилку дорог заранее, когда солнце только еще стало уходить к закату. Укрывшись за толстенным стволом желтого дуба, ждал возвращения Каськи.
Уже стало темнеть, когда появилась служанка. Шла торопливо, чтобы поспеть к закрытию ворот. Когда она только-только поравнялось с моим деревом, я выскочил из засады, и, прыгнув на дорогу, сзади ударил ее по ногам палкой. Она упала вперед – на руки, и только ахнула, не закричала даже. Прежде всем она поднялась, я подскочил сбоку и ударил ее палкой по лицу. Несильно, чтобы ничего не поломать. А сильно уже – по спине. И еще раз по ногам.
А потом ухватил узелок, что Каська несла в руках, и кинулся бежать. Шагов через сто я остановился, посох свой закинул в густые кусты, а узелок развязал, чтобы поглядеть, что же там такое. Там были домашние булки с медом и еще сальная свечка.
Важно сказать, что я выбросил и платок, и все содержимое, потому как не для корысти я все это устроил, а ради вразумления. После чего помчался в город. Солнце почти совсем село. Но я успел до закрытия ворот.
Кася возвратилась к нам в дом только утром, да и то уже часа через два после рассвета – ее подвез до самого нашего дома какой-то крестьянин, что не слишком торопился на базар. Ожидал наверняка награду, но ему не заплатили. Вспоминаю я об этом всегда с некоторым стыдом. Человек этот сделал доброе дело, и награда была им заслужена. Я уже тогда был наделен острым чувством справедливости.
– Ограбили? Отняли узелок? И что ж такого в узелке было ценного? – недоверчиво усмехнулась матушка.
Кася, всхлипывая, отвечала, что был маленький домашний подарочек.
– Да бывает такое, бывает… Мальчишки иногда из одного озорства нападают на одиноких путников, – подумав, согласилась матушка. – Хорошо еще, горло не перерезали. Ступай, отлежись. До следующего утра можешь у себя быть. Нара тебе супу принесет наверх.
В тот день родители мои ушла по делам вместе с Викером, Нара осталась приглядывать за лавкой, а я потихоньку поднялся наверх, в комнатку, где лежала Кася. Матушка сделала ей отвар из трав, и дала кроме супу еще краюху хлеба.
Я глядел на Касино разбитое лицо, на заплывший глаз, на ноги, все в синяках (она выпростала их из-под одеяла), и испытывал болезненную едкую жалость. Я был уверен, что проучить ее надобно, но при всем при этом было мне ее так жаль – жаль изуродованного распухшего лица, жаль черных синяков на тощих белых ногах. И сочувствие мое и жалость излились из меня, собравшись в некое подобие теплого тумана, и окутали несчастную. Она тихо ахнула, приподнялась на локте…
– Как хорошо-то. Как хоро-ошо-о…
Тогда в первый раз мне удалось создать небулу.
Часть 5. Диана. За двенадцать лет до войны Огня
Глава 1. Перевозчик
Корабль был древний, как само время. Думаю, он был даже старше империи Домирья. Галера с одним рядом весел и хищным носом-тараном. Корабли, летящие по волнам деревянными птицами – недолговечные создания, лет десять-двадцать, корпуса их гниют или обрастают ракушками, или пучина принимает их обломки вместе с несчастливым экипажем. Особо удачливые морские скитальцы добираются до ремонтных доков, где с них счищают наросты ракушек и заменяют сгнившие части, смолят, красят, ставят новые мачты и паруса, вновь ладят на нос золоченую скульптуру Счастливой Судьбы и отправляют в путь. Но чтобы сотни лет бороздить океанские волны? О таких кораблях никто и слыхом не слыхивал. А между тем это точно была древняя галера, еще не знающая нынешнего такелажа, позволяющего идти против ветра. Мачта имелась, одна-единственная, а парус тоже был единственный, полосатый, красный с белым, и свернут так надежно, что казалось, никогда его не наполняло дыхание ветра. Сам капитан стоял на корме, положив могучие руки на рулевые весла. Он был совершенно недвижен, так недвижен, что казалось, будто он к этим веслам прикован. Бритая голова, темная кожа, широченные плечи. Нас он заметил, чуть наклонил голову, повел глазами. Он даже что-то сказал. Мой магически усиленный слух уловил: «Каюта ваша. Лучше не выходить». Голос его напоминал скрип такелажа.
– Он родной брат императора Домирья, – шепнул Раниер. – После смерти императора – единственный, кто помнит историю Домирья. Говорят, год за годом он пишет книгу за книгой, рассказывая о славных делах империи, и прячет написанные тома в тайнике. А где тайник, никто не ведает.
– И никто не пытался узнать?
– Пытались. Но ничего не нашли. Думаю, всё это сказки, и книг на самом деле нет. И потом, какую историю он может написать, если никогда не сходит на берег? Ведь самое интересное в морской жизни – это портовые кабаки, – и Раниер подмигнул мне весьма дерзко.
Кроме самого капитана на корабле имелось двое помощников. Капитан был вроде как великан, эти двое – почти карлики, мне разве что по грудь. Они шустро передвигались по палубе и то и дело скатывались по трапам в трюм и так же быстро поднимались наверх. Были они темнолики, как и их капитан. Один из них пригласил нас с Раниером в каюту, освещенную лурсскими фонарями и заваленную морскими диковинами – огромными раковинами, шкатулками с жемчугом, причудливыми ветками кораллов, панцирями черепах и огромными клешнями крабов. Широкая постель была покрыта бархатным одеялом, и десятки подушек валялись как на самой кровати, так и на палубе.
У галеры этой было удивительное качество – на ней не ощущалось качки. Когда на третий день нашего путешествия поутру я приоткрыла дверь и высунулась наружу, то увидела, что корабль наш идет среди огромных волн. Их черные горбы, покрытые седой пеной, вздымалась выше палубы локтей на десять, не меньше, но Перевозчик как будто их не замечал. Валы расступались перед носом его корабля.
Я вышла на палубу и застыла в изумлении. Волны обдавали меня водяной пылью, но и только. Палуба не колебалась. Раниер выскочил следом, ухватил за руку и увлек назад в каюту.
– Капитан запретил выходить, – прошептал он, придерживая рукой дверь. Как будто опасался, что увиденная мной вода обрушится в наши покои.
– Он сказал: лучше не выходить.
– Лучше означает никогда. Вспомни, многозначность языка лурсов.
– Он говорит по-нашему.
– Но мыслит не как мы!
Раниер еще несколько морганий прислушивался, затем запер дверь на щеколду. После чего перевел дух и нырнул в кровать, как в волны. Я присела на край постели рядом.
– Мне кажется, Перевозчик за нами подглядывает.
– Зачем ему это? Он повидал столько людей, столько смертей на своем веку, что ему уже ничто не интересно.
– И он знает, куда мы держим путь?
– Знает.
– Так куда?
– На Остров. Говорят, туда иногда возвращаются древние боги.
– Разве Перевозчик не возит души в Мир мертвых?
– Души на корабле? – рассмеялся деланным смехом Раниер. – Зачем душам корабль? Если они продолжают жить, а не рассеиваются в нашем мире, души путешествуют сами. Нет. Перевозчик служил богам, а когда они ушли, стал служить Великому Магистру Ордена.
– Зачем?
– Этого никто не знает.
Мне почему-то почудилось, что сам Раниер ничего толком не ведает ни про Перевозчика, ни про его службу, и выдумывает на ходу, чтобы меня успокоить.
– Странный корабль. Как и его капитан. Мне кажется, там внизу нет гребцов. Весла сами по себе поднимаются и врезаются в воду.
– Ты что, меня за шлюху принял? А? – Она резко вскакивает. Едва не падает, опирается рукой о кровать. – Я не такая!
– Это не плата, Касенька, это просто обычай…
– Да плевать на обычай! В Ниене все бабы шлюхи, отдаются первому встречному, как только покажет монету. А я не такая. Нет!
Не помню, как я схватил серебрушку и, зажав в потной ладони, скатился вниз. Щеки мои горели. Вся кожа горела, будто ее облили кислотой. В своей комнатке я кинулся на кровать, закрыв лиц руками. Кася, Кася… Она плюнула мне в лицо. Бедная, вообразила, что ей дозволено наносить удары в ответ на мою доброту. С полчаса я лежал так, будто горел на костре. Потом вскочил. Я должен ее наказать, наказать за неблагодарность. Неблагодарных надо наказывать. Я знал это с самого малого детства, с того мига, как только начал ходить. Меня всегда наказывали за неблагодарность.
Я спустился вниз. Стоял во дворе, озираясь. Отец как-то высек Каську за разбитую кружку. Привязал к телеге, приказал развязать лиф, стащил рубаху до пояса. Потом бил розгами. Сильно, до крови. Мы все прибежали смотреть: я, Викер, матушка, Нара. Каська визжала, причитала, плакала. Когда она дергалась, были видны ее груди, большие, похожие на груши, странно большие для ее худого костлявого тела.
– А ведь девка врала мне, что ей шестнадцать, – вздохнула матушка, качая головой. – Наверняка уже все двадцать, и судя по грудям, рожавшая. Не бывает в шестнадцать у девчонок таких грудей.
Сейчас, стоя во дворе, я вспомнил недавнюю порку, и матушкины слова. А ведь я тогда бегал к аптекарю, и брал у него мазь Каське для спины – за три грошика своих личных, и потом передал Наре. И внизу, лежа в постели слышал, как стонет и плачет Каська, когда у нее со спины соскребают прилипшую рубашонку, а потом рубцы мажут мазью.
Да, так было, и да, жалость была и есть, но я должен ее усовестить.
И я придумал, как именно.
Глава 2. Наказание
В свой выходной она всякий раз направлялась к родне в подгородную деревушку. Выходила засветло, а возвращалась уже в темноте. Деревушка стояла не на Большой северной дороге, а на проселке, что уходил в сторону от главного тракта. Здесь, на развилке, я и решил ее поджидать. Заранее изготовил из крепкой рябины посох. А чтобы палка в моих руках смотрелась неслучайно, выйдя из дома, изображал хромоту, припадая на правую ногу. Лицо обвязал старым бабкиным платком, чтобы меня не узнали, и вместо обычной своей куртки надел обноски, которые матушка велела передать из милости Гимеру. Я всегда все продумывал в отличие от того же Викера. Пришел на развилку дорог заранее, когда солнце только еще стало уходить к закату. Укрывшись за толстенным стволом желтого дуба, ждал возвращения Каськи.
Уже стало темнеть, когда появилась служанка. Шла торопливо, чтобы поспеть к закрытию ворот. Когда она только-только поравнялось с моим деревом, я выскочил из засады, и, прыгнув на дорогу, сзади ударил ее по ногам палкой. Она упала вперед – на руки, и только ахнула, не закричала даже. Прежде всем она поднялась, я подскочил сбоку и ударил ее палкой по лицу. Несильно, чтобы ничего не поломать. А сильно уже – по спине. И еще раз по ногам.
А потом ухватил узелок, что Каська несла в руках, и кинулся бежать. Шагов через сто я остановился, посох свой закинул в густые кусты, а узелок развязал, чтобы поглядеть, что же там такое. Там были домашние булки с медом и еще сальная свечка.
Важно сказать, что я выбросил и платок, и все содержимое, потому как не для корысти я все это устроил, а ради вразумления. После чего помчался в город. Солнце почти совсем село. Но я успел до закрытия ворот.
Кася возвратилась к нам в дом только утром, да и то уже часа через два после рассвета – ее подвез до самого нашего дома какой-то крестьянин, что не слишком торопился на базар. Ожидал наверняка награду, но ему не заплатили. Вспоминаю я об этом всегда с некоторым стыдом. Человек этот сделал доброе дело, и награда была им заслужена. Я уже тогда был наделен острым чувством справедливости.
– Ограбили? Отняли узелок? И что ж такого в узелке было ценного? – недоверчиво усмехнулась матушка.
Кася, всхлипывая, отвечала, что был маленький домашний подарочек.
– Да бывает такое, бывает… Мальчишки иногда из одного озорства нападают на одиноких путников, – подумав, согласилась матушка. – Хорошо еще, горло не перерезали. Ступай, отлежись. До следующего утра можешь у себя быть. Нара тебе супу принесет наверх.
В тот день родители мои ушла по делам вместе с Викером, Нара осталась приглядывать за лавкой, а я потихоньку поднялся наверх, в комнатку, где лежала Кася. Матушка сделала ей отвар из трав, и дала кроме супу еще краюху хлеба.
Я глядел на Касино разбитое лицо, на заплывший глаз, на ноги, все в синяках (она выпростала их из-под одеяла), и испытывал болезненную едкую жалость. Я был уверен, что проучить ее надобно, но при всем при этом было мне ее так жаль – жаль изуродованного распухшего лица, жаль черных синяков на тощих белых ногах. И сочувствие мое и жалость излились из меня, собравшись в некое подобие теплого тумана, и окутали несчастную. Она тихо ахнула, приподнялась на локте…
– Как хорошо-то. Как хоро-ошо-о…
Тогда в первый раз мне удалось создать небулу.
Часть 5. Диана. За двенадцать лет до войны Огня
Глава 1. Перевозчик
Корабль был древний, как само время. Думаю, он был даже старше империи Домирья. Галера с одним рядом весел и хищным носом-тараном. Корабли, летящие по волнам деревянными птицами – недолговечные создания, лет десять-двадцать, корпуса их гниют или обрастают ракушками, или пучина принимает их обломки вместе с несчастливым экипажем. Особо удачливые морские скитальцы добираются до ремонтных доков, где с них счищают наросты ракушек и заменяют сгнившие части, смолят, красят, ставят новые мачты и паруса, вновь ладят на нос золоченую скульптуру Счастливой Судьбы и отправляют в путь. Но чтобы сотни лет бороздить океанские волны? О таких кораблях никто и слыхом не слыхивал. А между тем это точно была древняя галера, еще не знающая нынешнего такелажа, позволяющего идти против ветра. Мачта имелась, одна-единственная, а парус тоже был единственный, полосатый, красный с белым, и свернут так надежно, что казалось, никогда его не наполняло дыхание ветра. Сам капитан стоял на корме, положив могучие руки на рулевые весла. Он был совершенно недвижен, так недвижен, что казалось, будто он к этим веслам прикован. Бритая голова, темная кожа, широченные плечи. Нас он заметил, чуть наклонил голову, повел глазами. Он даже что-то сказал. Мой магически усиленный слух уловил: «Каюта ваша. Лучше не выходить». Голос его напоминал скрип такелажа.
– Он родной брат императора Домирья, – шепнул Раниер. – После смерти императора – единственный, кто помнит историю Домирья. Говорят, год за годом он пишет книгу за книгой, рассказывая о славных делах империи, и прячет написанные тома в тайнике. А где тайник, никто не ведает.
– И никто не пытался узнать?
– Пытались. Но ничего не нашли. Думаю, всё это сказки, и книг на самом деле нет. И потом, какую историю он может написать, если никогда не сходит на берег? Ведь самое интересное в морской жизни – это портовые кабаки, – и Раниер подмигнул мне весьма дерзко.
Кроме самого капитана на корабле имелось двое помощников. Капитан был вроде как великан, эти двое – почти карлики, мне разве что по грудь. Они шустро передвигались по палубе и то и дело скатывались по трапам в трюм и так же быстро поднимались наверх. Были они темнолики, как и их капитан. Один из них пригласил нас с Раниером в каюту, освещенную лурсскими фонарями и заваленную морскими диковинами – огромными раковинами, шкатулками с жемчугом, причудливыми ветками кораллов, панцирями черепах и огромными клешнями крабов. Широкая постель была покрыта бархатным одеялом, и десятки подушек валялись как на самой кровати, так и на палубе.
У галеры этой было удивительное качество – на ней не ощущалось качки. Когда на третий день нашего путешествия поутру я приоткрыла дверь и высунулась наружу, то увидела, что корабль наш идет среди огромных волн. Их черные горбы, покрытые седой пеной, вздымалась выше палубы локтей на десять, не меньше, но Перевозчик как будто их не замечал. Валы расступались перед носом его корабля.
Я вышла на палубу и застыла в изумлении. Волны обдавали меня водяной пылью, но и только. Палуба не колебалась. Раниер выскочил следом, ухватил за руку и увлек назад в каюту.
– Капитан запретил выходить, – прошептал он, придерживая рукой дверь. Как будто опасался, что увиденная мной вода обрушится в наши покои.
– Он сказал: лучше не выходить.
– Лучше означает никогда. Вспомни, многозначность языка лурсов.
– Он говорит по-нашему.
– Но мыслит не как мы!
Раниер еще несколько морганий прислушивался, затем запер дверь на щеколду. После чего перевел дух и нырнул в кровать, как в волны. Я присела на край постели рядом.
– Мне кажется, Перевозчик за нами подглядывает.
– Зачем ему это? Он повидал столько людей, столько смертей на своем веку, что ему уже ничто не интересно.
– И он знает, куда мы держим путь?
– Знает.
– Так куда?
– На Остров. Говорят, туда иногда возвращаются древние боги.
– Разве Перевозчик не возит души в Мир мертвых?
– Души на корабле? – рассмеялся деланным смехом Раниер. – Зачем душам корабль? Если они продолжают жить, а не рассеиваются в нашем мире, души путешествуют сами. Нет. Перевозчик служил богам, а когда они ушли, стал служить Великому Магистру Ордена.
– Зачем?
– Этого никто не знает.
Мне почему-то почудилось, что сам Раниер ничего толком не ведает ни про Перевозчика, ни про его службу, и выдумывает на ходу, чтобы меня успокоить.
– Странный корабль. Как и его капитан. Мне кажется, там внизу нет гребцов. Весла сами по себе поднимаются и врезаются в воду.