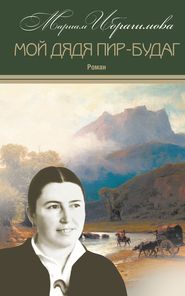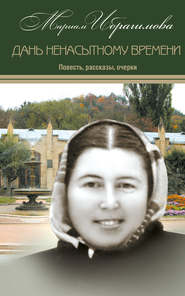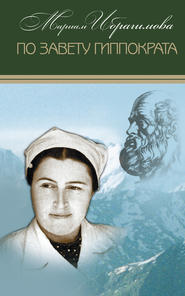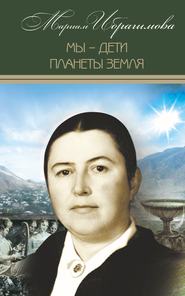По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тебе, мой сын. Роман-завещание
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В период полувековой Кавказской войны Турция никакой роли на политической арене не играла. Первая половина XIX столетия была наитяжелейшим периодом крушения её былого могущества. Раздираемая внутренними противоречиями, потрясаемая восстаниями зависимых народов, терзаемая дипломатическими махинациями великих держав, она была на краю гибели. А к великим державам той эпохи в первую очередь относились Россия и владычица морей Англия. И не Турция, а Россия с Англией и Францией усиленно занимались так называемым восточным вопросом.
Судя по утверждению Карла Маркса, Россия и Англия смотрели на Турцию как на «мёртвую», строя планы раздела её владений между собой. Но ведь Берия не был историком, чтобы знать всё это. А те, ему подпевал, делали так, как он хотел. Захотел Берия, чтобы 15-летнее освободительное движение алжирцев под руководством эмира Абд эль-Кадыра против французских колонизаторов (в тот самый период, когда действовал Шамиль) считалось народно-освободительным, – так и рассматривалось, хотя оно тоже не было лишено религиозной оболочки.
А ведь присоединение Алжира к цивилизованной Франции тоже имело положительные стороны в смысле приобщения к европейской культуре, прогрессу Но алжирцам, как и дагестанцам, хотелось свободы. Они умели довольствоваться плодами своей сохранившейся традиционной культуры и на экономические выгоды, с осознанием преимущества развитых стран, могли пойти со временем только на мирных, добровольных началах.
Освободительные движения в тот исторический период были явлением закономерным, следовательно, и движение народов Чечни и Дагестана за свою свободу и независимость нельзя рассматривать как исключение. Но в отличие от других стран оно затянулось на многие годы. И, что примечательно, стойко держались в почти полувековой борьбе малочисленной армии горцев против могучих сил России, перед которыми трепетали армии стран Европы.
И это, наверное, потому, что священной, освободительной борьбе народов Чечни и Дагестана сочувствовали сами русские – передовые мыслители противоборствующей стороны. При всех трёх имамах – Кази-Мулле, Гамзат-беке и Шамиле – на сторону мятежных горцев перебегали не единицами, а целыми ротами, особенно из польских частей, сосланных на Кавказ после восстания 1831 года в Варшаве.
Достаточно сказать, что в свите имама Гамзата и среди его приближённых было много польских офицеров. В числе телохранителей Гамзата, сопровождавших его в Хунзахскую мечеть, было более десяти поляков (см. повесть Л. Толстого «Хаджи-Мурат»). В имамате Шамиля были целые слободы и поселения русских солдат. Офицеры, мастера-оружейники, артиллеристы использовались Шамилём как специалисты в мирные дни и как союзники в военное время. Большинство из них принимали ислам и на равных правах со всеми жили в Дагестане.
Пригодных для возделывания земель не хватало, и многие жители, освоив ремесло медников, лудильщиков, уходили на зароботки в другие края. Обучились и мой отец с младшим братом мастерству лудильщика и осенью 1912 года отправились на Кубань к дальнему родственнику Хабибулле.
Хабибулла – муж старшей сестры отца – за несколько лет до того приобрёл на Кубани старый хуторок с землёй и развернул такую деятельность, что стал настоящим крестьянином. Одарённый от природы ясным умом, горец вывел новые урожайные сорта кубанской пшеницы, развёл крупный рогатый скот. Со временем ему дополнительно понадобилась рабочая сила.
Экономкой у него была одинокая дородная казачка, с которой он жил как с женой. Поскольку многожёнство у мусульман узаконено Кораном, на этот факт братья законной жены не обращали внимания.
Вторым подручным у Хабибуллы был расторопный, смекалистый русский паренёк-сирота. Пришёл он к нему с другом-односельчанином наниматься на работу. Обоим Хабибулла предложил дать курам корм. Первый схватил мерку, полную зерна, и высыпал содержимое на землю. Второй спросил у хозяина, сколько у него кур. «Сто», – ответил хозяин.
Взял мерку и всыпал в кормушки сто жменей. Хабибулла, наблюдавший за работой хлопцев, первому в работе отказал, заявив, что хозяин из него не получится, а второго – сироту – оставил и сделал скотником.
Ко времени уборочной страды Хабибулла ездил нанимать людей в Ейск – туда в поисках работы сходились и съезжались из деревень Центральной России простые люди. Босоногие наёмные сезонные рабочие ждали хозяев на базарной площади (бирже труда) и, чтобы не торговаться с нанимателями, на дощечке мелом обозначали цифру подённой стоимости своего труда. Разумеется, те, кто помоложе и физически здоровее, заламывали суммы побольше, а слабые и старики соглашались и на небольшую оплату.
Хабибулла, как, впрочем, и всякий рачительный хозяин, понимал, что дело ещё не в одной физической силе, что иной худой да жилистый может обойти в работе здорового, но неповоротливого. Поэтому, прежде чем нанять рабочих, он приглашал их в харчевню, щедро угощал, а сам следил, кто как ест, отбирая тех, кто ел быстрее.
Однажды после окончания уборочных работ один из сезонных рабочих спросил у хозяина, почему тот своему подручному рабочему установил плату вдвое больше, чем ему, сезонному.
– А погляди на дорогу, едет обоз, пойди узнай, что за люди, – подумав, ответил Хабибулла.
– Купчишки из Одессы, едут в Екатеринодар, – сказал, вернувшись, парень.
– Что везут? – спросил хозяин.
– Не знаю, – ответил рабочий.
– Пойди спроси.
Парень побежал и, узнав, ответил:
– Соль везут.
– Почём пуд? – спросил хозяин.
– Не знаю, – ответил работник.
– Так пойди узнай.
Рабочий побежал и, возвратившись, сообщил:
– Руль за пуд просят.
Тогда Хабибулла кликнул подручного, которому платил вдвое больше за рабочий день, и сказал ему:
– Вон обоз, догони, узнай, что за люди.
Подручный сбегал и, быстро вернувшись, доложил:
– Купцы из Одессы, везут в Екатеринодар соль для продажи, за пуд положили рубль.
И Хабибулла, обратившись к недовольному оплатой сезонному рабочему сказал:
– Теперь ты понял, почему я плачу подручному вдвое больше?
Через несколько дней после приезда Хабибулла повёз обоих парней в станицу Челбасскую. Там он снял, заплатив за полгода вперёд, помещение, в котором они должны были открыть свою мастерскую и там же жить. Велев оставить инструменты, Хабибулла повёз земляков обратно к себе на хутор. Зная, что оба неплохие косари, попросил помочь заготовить сена скоту на зиму.
Когда заканчивались работы в поле, в городах устраивались шумные ярмарки – с танцами под духовые оркестры, с различными аттракционами. Когда духовой оркестр заиграл лезгинку, приехавшие на ярмарку горцы не удержались, вихрем ворвались в круг и под восторженные возгласы и хлопанье в ладоши молодых казаков и казачек закружились в искромётном танце, зажигая весёлым азартом взоры глядящих на них девчат.
– Вот за того, черноусого я бы пошла замуж, – сказала одна русоволосая казачка, прижимаясь к стайке теснившихся впереди подружек.
– Ой, Паша, да как можно, он же бусурман, – ойкнула вторая.
Истоки рода
Поздней осенью оба брата, Ибрагим и Мудун, вернувшись в Челбасскую, были возмущены, узнав, что хозяин, у которого Хабибулла снял для них часть дома под жильё и мастерскую, без всякого к тому повода выбросил на улицу чуть ли не все их пожитки.
Молодая казачка из соседнего дома, увидев действия сумасбродного старика, сурово насупила брови.
– Да как тебе не стыдно? Они уплатили вперёд за полгода, ничем тебя не стеснив, не обидев, а ты выбрасываешь их вещи. Ты – бесстыжий забулдыга, а не казак. А если вернутся, что будет?
Её мать, Елена Васильевна, приказала снести все пожитки горцев в сарай.
Когда дагестанцы вернулись, старший, Ибрагим, спокойно спросил старика:
– Может, тебе эта халупа для чего-нибудь другого понадобилась?
– Мой дом, чего хочу, то и делаю, – помолчав немного, ответил подвыпивший старик.
– Жить среди людей и делать чего хочу нельзя. Надо считаться с обычаями, утверждёнными правами и законами совести тех, среди кого живёшь. К твоему счастью, наш народ почтительно относится к старости. А то, что нами уплачено, прими как милостыню.
Пока парни выясняли отношения со старым казаком, дочь соседей Гаврей, удивлённо смотрела на черноусого плясуна, за которого, как она сказала, не задумываясь пошла бы замуж.
Её братья – Василий, Иван и Леонтий – пригласили горцев в дом, угостили чаем и в тот же день нашли Ибрагиму и Мудуну другое помещение для мастерской и жилья. Кавказцы сразу взялись за дело. К их мастерской потянулись казаки и казачки за всякими нуждами: кому запаять или полудить, кому починить медный казан, примус, ковшик или таз, вёдра, самовары.
Вечерами станичная молодёжь собиралась у дома Гаврей. Василий и Леонтий считались лучшими гармонистами в станице. Ибрагим и Мудун тоже присоединялись к станичной молодёжи. Василий вскоре специально выучил мотив лезгинки, чтобы станичные девчата и парни могли не только любоваться исполнением задорного кавказского танца, а и сами выходили в круг. Среди зрителей можно было увидеть и самого атамана Чубаря со старыми казаками. Трезвые, рассудительные, степенные горцы быстро заслужили уважение станичников.
А в сердце Паши разгоралась настоящая любовь. Вначале она старалась избегать Ибрагима и вроде не обращала на него внимания, как и он тянулся к ней, но вскоре всем стало ясно, что Ибрагим и Паша неравнодушны друг к другу. Братья Гаври ничего не имели против горца, так же как и мать с отцом.
У Ибрагима и Мудуна, кроме Хабибуллы, на Кубани оказались ещё три родственника из родного села – Сабит, Али и Султан. Они владели в Ейске собственной мануфактурной лавкой. Сабит, старший хозяин, бывал часто в разъездах, а младшие – Али и Султан – торговали. Они-то и надоумили Ибрагима и Мудуна открыть в станице такую же лавку. Дело чистое, не то что возиться с закопчёнными котлами, примусами, кислотой да нашатырём, с неотмываемой сажей, въедавшейся в руки.
Судя по утверждению Карла Маркса, Россия и Англия смотрели на Турцию как на «мёртвую», строя планы раздела её владений между собой. Но ведь Берия не был историком, чтобы знать всё это. А те, ему подпевал, делали так, как он хотел. Захотел Берия, чтобы 15-летнее освободительное движение алжирцев под руководством эмира Абд эль-Кадыра против французских колонизаторов (в тот самый период, когда действовал Шамиль) считалось народно-освободительным, – так и рассматривалось, хотя оно тоже не было лишено религиозной оболочки.
А ведь присоединение Алжира к цивилизованной Франции тоже имело положительные стороны в смысле приобщения к европейской культуре, прогрессу Но алжирцам, как и дагестанцам, хотелось свободы. Они умели довольствоваться плодами своей сохранившейся традиционной культуры и на экономические выгоды, с осознанием преимущества развитых стран, могли пойти со временем только на мирных, добровольных началах.
Освободительные движения в тот исторический период были явлением закономерным, следовательно, и движение народов Чечни и Дагестана за свою свободу и независимость нельзя рассматривать как исключение. Но в отличие от других стран оно затянулось на многие годы. И, что примечательно, стойко держались в почти полувековой борьбе малочисленной армии горцев против могучих сил России, перед которыми трепетали армии стран Европы.
И это, наверное, потому, что священной, освободительной борьбе народов Чечни и Дагестана сочувствовали сами русские – передовые мыслители противоборствующей стороны. При всех трёх имамах – Кази-Мулле, Гамзат-беке и Шамиле – на сторону мятежных горцев перебегали не единицами, а целыми ротами, особенно из польских частей, сосланных на Кавказ после восстания 1831 года в Варшаве.
Достаточно сказать, что в свите имама Гамзата и среди его приближённых было много польских офицеров. В числе телохранителей Гамзата, сопровождавших его в Хунзахскую мечеть, было более десяти поляков (см. повесть Л. Толстого «Хаджи-Мурат»). В имамате Шамиля были целые слободы и поселения русских солдат. Офицеры, мастера-оружейники, артиллеристы использовались Шамилём как специалисты в мирные дни и как союзники в военное время. Большинство из них принимали ислам и на равных правах со всеми жили в Дагестане.
Пригодных для возделывания земель не хватало, и многие жители, освоив ремесло медников, лудильщиков, уходили на зароботки в другие края. Обучились и мой отец с младшим братом мастерству лудильщика и осенью 1912 года отправились на Кубань к дальнему родственнику Хабибулле.
Хабибулла – муж старшей сестры отца – за несколько лет до того приобрёл на Кубани старый хуторок с землёй и развернул такую деятельность, что стал настоящим крестьянином. Одарённый от природы ясным умом, горец вывел новые урожайные сорта кубанской пшеницы, развёл крупный рогатый скот. Со временем ему дополнительно понадобилась рабочая сила.
Экономкой у него была одинокая дородная казачка, с которой он жил как с женой. Поскольку многожёнство у мусульман узаконено Кораном, на этот факт братья законной жены не обращали внимания.
Вторым подручным у Хабибуллы был расторопный, смекалистый русский паренёк-сирота. Пришёл он к нему с другом-односельчанином наниматься на работу. Обоим Хабибулла предложил дать курам корм. Первый схватил мерку, полную зерна, и высыпал содержимое на землю. Второй спросил у хозяина, сколько у него кур. «Сто», – ответил хозяин.
Взял мерку и всыпал в кормушки сто жменей. Хабибулла, наблюдавший за работой хлопцев, первому в работе отказал, заявив, что хозяин из него не получится, а второго – сироту – оставил и сделал скотником.
Ко времени уборочной страды Хабибулла ездил нанимать людей в Ейск – туда в поисках работы сходились и съезжались из деревень Центральной России простые люди. Босоногие наёмные сезонные рабочие ждали хозяев на базарной площади (бирже труда) и, чтобы не торговаться с нанимателями, на дощечке мелом обозначали цифру подённой стоимости своего труда. Разумеется, те, кто помоложе и физически здоровее, заламывали суммы побольше, а слабые и старики соглашались и на небольшую оплату.
Хабибулла, как, впрочем, и всякий рачительный хозяин, понимал, что дело ещё не в одной физической силе, что иной худой да жилистый может обойти в работе здорового, но неповоротливого. Поэтому, прежде чем нанять рабочих, он приглашал их в харчевню, щедро угощал, а сам следил, кто как ест, отбирая тех, кто ел быстрее.
Однажды после окончания уборочных работ один из сезонных рабочих спросил у хозяина, почему тот своему подручному рабочему установил плату вдвое больше, чем ему, сезонному.
– А погляди на дорогу, едет обоз, пойди узнай, что за люди, – подумав, ответил Хабибулла.
– Купчишки из Одессы, едут в Екатеринодар, – сказал, вернувшись, парень.
– Что везут? – спросил хозяин.
– Не знаю, – ответил рабочий.
– Пойди спроси.
Парень побежал и, узнав, ответил:
– Соль везут.
– Почём пуд? – спросил хозяин.
– Не знаю, – ответил работник.
– Так пойди узнай.
Рабочий побежал и, возвратившись, сообщил:
– Руль за пуд просят.
Тогда Хабибулла кликнул подручного, которому платил вдвое больше за рабочий день, и сказал ему:
– Вон обоз, догони, узнай, что за люди.
Подручный сбегал и, быстро вернувшись, доложил:
– Купцы из Одессы, везут в Екатеринодар соль для продажи, за пуд положили рубль.
И Хабибулла, обратившись к недовольному оплатой сезонному рабочему сказал:
– Теперь ты понял, почему я плачу подручному вдвое больше?
Через несколько дней после приезда Хабибулла повёз обоих парней в станицу Челбасскую. Там он снял, заплатив за полгода вперёд, помещение, в котором они должны были открыть свою мастерскую и там же жить. Велев оставить инструменты, Хабибулла повёз земляков обратно к себе на хутор. Зная, что оба неплохие косари, попросил помочь заготовить сена скоту на зиму.
Когда заканчивались работы в поле, в городах устраивались шумные ярмарки – с танцами под духовые оркестры, с различными аттракционами. Когда духовой оркестр заиграл лезгинку, приехавшие на ярмарку горцы не удержались, вихрем ворвались в круг и под восторженные возгласы и хлопанье в ладоши молодых казаков и казачек закружились в искромётном танце, зажигая весёлым азартом взоры глядящих на них девчат.
– Вот за того, черноусого я бы пошла замуж, – сказала одна русоволосая казачка, прижимаясь к стайке теснившихся впереди подружек.
– Ой, Паша, да как можно, он же бусурман, – ойкнула вторая.
Истоки рода
Поздней осенью оба брата, Ибрагим и Мудун, вернувшись в Челбасскую, были возмущены, узнав, что хозяин, у которого Хабибулла снял для них часть дома под жильё и мастерскую, без всякого к тому повода выбросил на улицу чуть ли не все их пожитки.
Молодая казачка из соседнего дома, увидев действия сумасбродного старика, сурово насупила брови.
– Да как тебе не стыдно? Они уплатили вперёд за полгода, ничем тебя не стеснив, не обидев, а ты выбрасываешь их вещи. Ты – бесстыжий забулдыга, а не казак. А если вернутся, что будет?
Её мать, Елена Васильевна, приказала снести все пожитки горцев в сарай.
Когда дагестанцы вернулись, старший, Ибрагим, спокойно спросил старика:
– Может, тебе эта халупа для чего-нибудь другого понадобилась?
– Мой дом, чего хочу, то и делаю, – помолчав немного, ответил подвыпивший старик.
– Жить среди людей и делать чего хочу нельзя. Надо считаться с обычаями, утверждёнными правами и законами совести тех, среди кого живёшь. К твоему счастью, наш народ почтительно относится к старости. А то, что нами уплачено, прими как милостыню.
Пока парни выясняли отношения со старым казаком, дочь соседей Гаврей, удивлённо смотрела на черноусого плясуна, за которого, как она сказала, не задумываясь пошла бы замуж.
Её братья – Василий, Иван и Леонтий – пригласили горцев в дом, угостили чаем и в тот же день нашли Ибрагиму и Мудуну другое помещение для мастерской и жилья. Кавказцы сразу взялись за дело. К их мастерской потянулись казаки и казачки за всякими нуждами: кому запаять или полудить, кому починить медный казан, примус, ковшик или таз, вёдра, самовары.
Вечерами станичная молодёжь собиралась у дома Гаврей. Василий и Леонтий считались лучшими гармонистами в станице. Ибрагим и Мудун тоже присоединялись к станичной молодёжи. Василий вскоре специально выучил мотив лезгинки, чтобы станичные девчата и парни могли не только любоваться исполнением задорного кавказского танца, а и сами выходили в круг. Среди зрителей можно было увидеть и самого атамана Чубаря со старыми казаками. Трезвые, рассудительные, степенные горцы быстро заслужили уважение станичников.
А в сердце Паши разгоралась настоящая любовь. Вначале она старалась избегать Ибрагима и вроде не обращала на него внимания, как и он тянулся к ней, но вскоре всем стало ясно, что Ибрагим и Паша неравнодушны друг к другу. Братья Гаври ничего не имели против горца, так же как и мать с отцом.
У Ибрагима и Мудуна, кроме Хабибуллы, на Кубани оказались ещё три родственника из родного села – Сабит, Али и Султан. Они владели в Ейске собственной мануфактурной лавкой. Сабит, старший хозяин, бывал часто в разъездах, а младшие – Али и Султан – торговали. Они-то и надоумили Ибрагима и Мудуна открыть в станице такую же лавку. Дело чистое, не то что возиться с закопчёнными котлами, примусами, кислотой да нашатырём, с неотмываемой сажей, въедавшейся в руки.