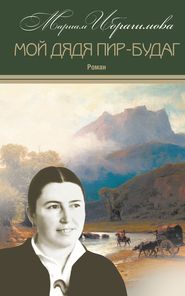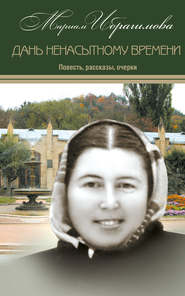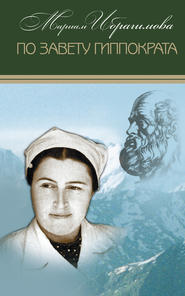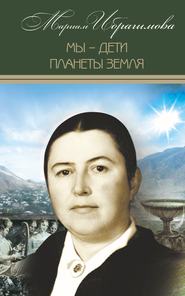По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тебе, мой сын. Роман-завещание
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но обратимся снова к Дагестану. Название народностей, племён, обитающих здесь, чаще всего связано с названием мест прежнего обитания – местностью, морями, реками, озёрами, а также с именами вождей. Именно в них они сохранились и предстали перед нами со всей сложностью этнической пестроты.
Так, например, авары (аварцы) – название собирательное в этническом смысле – народ, состоящий из смеси алан-сарматов и гуннов (хуннов), то есть ариев с монголами. Если в аварских районах Дагестана в названиях селений преобладал гуннский элемент – Гинниб, Гунбет, Хунзах, то в селениях лакцев хотя и встречаются гуннские наименования – Гунн-Мункх (Кумух), Гунчукатль, но встречаются аулы, названия которых хранят тайны истории и других древних народов. Так, например, недалеко от Кумуха у вершины горы стоит аул Ур. Известно, что в XXII веке до нашей эры был совершён знаменитый Эламский погром Ура, в котором жили древние племена Ирана, а в настоящее время обитают луры и курды. Есть другой аул – Ури-Мукархи. Часть народа, живущего в нём, называется урми. Озеро Урмия (Резайе) находится в Иране – в низовьях Евфрата. Окрестности его тоже были населены с древности и не раз подвергались нашествиям.
Лакский аул Куба, в котором живут кубинцы, с этой точки зрения тоже представляет интерес. Инал-Куба, что на побережье Кубани, существовал и на Северном Кавказе. Кубинский район и сейчас благополучно существует в Азербайджане. Есть ли связь?
Аул Кума – население куминцы – разве не может иметь отношения к куманам, жившим на побережье Кумы Северного Кавказа? В Лакском районе есть аул Вихли. Существует предание, что вихлинцы переселились сюда из Сюрги (Кубачи-Зерихгерана). Своих непосредственных южных соседей – лезгин лакцы называют куралами. Не с побережий ли Куры поднялся этот народ в поисках убежища к заоблачным вершинам дагестанских гор?
После того как Персия утвердилась на кавказском побережье Каспия и преградила могучей стеной и железными воротами в самом узком месте «великий проход», Казикумух превратился в крупный торговый центр. Сюда и отсюда шли купеческие караваны на юг, в Закавказье и на Север. В этом пограничном городище оседали крупные торговцы в ожидании покупателей, являвшихся из сопредельных государств и соседних селений. Тогда ещё и в помине не было портового города Махач-Калы и появившейся в XVIII веке Темир-Хан-Шуры. А дороги вились по предгорьям, склонам гор, долинам рек, и одна из колёсных (царская) вела к Казикумуху и дальше, через горы, в пределы Азербайджана и Грузии уже по тропам.
Когда-то Кумух (Гунн-Мунк – страна гуннов) был разделён на магалы и махла (районы), а последние, в свою очередь, на джамааты – кварталы. Каждый махла жил обособленно из-за разноплемённого состава населения, с различным вероисповеданием и культовыми, жреческими храмами. Основное население – лакцы – исповедовало христианство. Но были здесь и магалы персов и армян – зороастрийцев и синагоги хазар, исповедующих иудаизм. У каждого из жителей махла были свои отдельные кладбища. Например, до наших дней сохранилось Семирдарал гаталлу – кладбище хазар-семендерцев.
Один из крупных городов Хазарии, который находился рядом с аулом Тарки на горе Тарки-Тау, возвышающейся над Каспием, был хорошо известен историкам. Христианство к лакцам проникло из Грузии, которая на много веков раньше, чем Россия, приняла православие.
С нашествием арабов во второй половине VII века и в начале VIII века ислам был утверждён во всём Дагестане. Первый мусульманский собор был возведён лакцами с помощью арабов в Казикумухе. Эта Джума-мечеть, в которой проводилось богослужение в пятничные дни, сохранилась и по сей день.
Казикумух испокон веку славился не только торговцами, купцами, искусными мастеровыми-ювелирами, но и самыми лучшими на Кавказе оружейниками. С утверждением ислама Казикумух стал религиозным центром не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа. Здесь при Джума-мечети было открыто медресе, где способные юноши изучали теологию, шариат – мусульманское право, чтобы стать со временем муллами, кадиями в других районах и округах горного края. Несмотря на усердие в соблюдении мусульманских законов, казикумухцы отличались веротерпимостью.
Лакские учёные-арабисты сыграли определённую роль в возникновении национально-освободительного движения среди горцев Дагестана. Достаточно сказать, что первым учителем, наставником, а затем главным советником имама Шамиля был учёный-арабист шейх Джамалуддин Гусейн, который сопровождал его во всех походах и породнился с имамом, выдав за него свою дочь Загидат.
Шамиль – человек высокой культуры, честный и порядочный от природы, чуждый лжи, лицемерия, корысти. Зная склонность к мошенничеству торгового люда, он долго подбирал для своего имамата министра торговли и остановился на казикумухском купце, который прослыл человеком предельно порядочным и честным в торговых делах. Шейх Джамалуддин Гусейн пополнил библиотеку зятя-имама множеством своих драгоценных томов по геологии, законоведению, истории, географии, военному делу, поэзии, литературе, вывезенных из Багдада, Каира, Стамбула, Дамаска, других крупных городов восточных государств. Книги едва вмещались в перемётные сумы, взваленные на спины сорока мулов, лошадей и ишаков.
Но обратимся к событиям, предшествовавшим возникновению мюридизма и освободительного движения, возглавляемого Шамилём. Освободительное движение народов началось с Северного Кавказа, с начала экспансии в эти края царской России. Выражалось оно поначалу в виде протестов и возмущений отдельных поселян, которых оттесняли (вернее – сгоняли) с насиженных мест казачьи войска, посланные Екатериной II, чтобы проложить путь к Каспию и утвердиться на всей Кавказской линии.
Успехам сил империи благоприятствовала этническая и религиозная раздробленность коренного населения, к тому же постоянно враждовавшего между собой.
Кроме того, племена Северного Кавказа, живущие в пограничных с Россией регионах, из-за добрососедских отношений и сложившихся контактов с русскими не проявляли особого сопротивления движению русских, если дела не касались их личных интересов.
Так, например, в Кабарде, в которой феодальные отношения получили большее развитие, князья и местная знать придерживались русской ориентации. Многие кабардинцы состояли на службе в местной царской администрации и войсках. Однако часть князей, земельные владения которых подвергались реквизиции с целью возведения крепостей, кордонных укреплений, заграждений, за которыми помимо всего находили убежище беглые кабардинские крестьяне, придерживалась турецкой ориентации и поддерживала связь с мусульманским духовенством Крыма. Естественно, возникали столкновения между ними и русскими, но опять-таки они носили эпизодический, локальный характер.
Дела на Кавказе усложнились с продвижением русских войск к Чечне. Здесь ещё прочны были родоплеменные отношения, а ислам, проникший из Дагестана, носил устойчивый характер. Насильственное вытеснение ингушей и чеченцев с плодородных земель вызвало массовое возмущение. В результате в 1785 году поднялся мятеж, который возглавил учёный-арабист шейх Мансур из аула Алты-Кабак. Против чеченцев был направлен отряд карателей, которому удалось прорваться в ставку шейха Мансура. Повстанцы вместе с мирянами укрылись в окрестных лесах и устроили засаду у дороги. Когда солдаты, предав огню селение и вытоптав поля, возвращались обратно, чеченцы напали на них, часть во главе с полковником уничтожили, остальных пленили.
Воодушевлённые этим успехом чеченские и ингушские повстанцы, предводимые шейхом Мансуром, предприняли ряд более дерзких наступательных действий, пытаясь захватить Кизляр – крупный стратегический пункт на Кавказской линии, но безуспешно. С кинжалами, шашками и пороховыми винтовками мансуровские мухаджиры были бессильны перед мощью русской артиллерии.
Мансур, покинув Чечню, ушёл в Кабарду, а после безуспешной попытки сколотить силы под зелёным знаменем пророка отправился за Кубань – ближе к туркам. Там, встретив равнодушие со стороны единоверцев, шейх пытается пойти на примирение с русскими. Но командовавший войсками генерал Потёмкин отказал Мансуру. Тогда он переметнулся в турецкий лагерь, готовящийся к войне с Россией. Война началась осенью 1787 года. Шейх Мансур прилагал все усилия с помощью религиозных проповедей поднять черкесов и карачаев против России. Но народы эти не поддержали посланца турок. При битве на реке Уруп небольшой отряд шейха был разбит, а сам предводитель бежал в Анапу.
Война продолжалась. Здесь надо сказать, что мусульманское население Кавказа не откликнулось на призывы к священной войне султана Селима III. Турки потерпели поражение. Был схвачен и шейх Мансур. По указанию Екатерины II его заточили в Шлиссельбургскую крепость, где он и окончил свои дни. Всё это я описала не только ради того, чтобы осветить предысторию шамилёвской эпохи, а главным образом в связи с одним из моих произведений – поэмой «Батал-паша».
Вероятно, из-за чрезмерно развитого чувства патриотизма и национальной гордости некоторые дореволюционные, а большей частью современные историки искажают факты и переоценивают действия сил империи, не считаясь даже с событиями, сыгравшими значительную роль в победе вооружённых сил России.
Когда-то меня заинтересовало название станицы Баталпашинской (ныне город Черкесск) и то, почему в те 1790–1791 годы, когда шла война с турками, казачью станицу вдруг назвали именем вражеского полководца, командовавшего турецкими войсками на Северном Кавказе. Как удалось выяснить в результате консультаций с известными учёными, литераторами Азербайджана, Карачая, Батал-паша – черкес по национальности. С юношеских лет находился на военной службе в войсках султанов и прославился как талантливый, бесстрашный военачальник, умноживший владения империи турок. Собственно турок в государстве Сельджука и Османа, завоевавших Переднюю Азию, часть юго-востока Балканского полуострова, омываемого Чёрным и Средиземным морями, меньшинство. Основная часть жителей этнически разнородная. Вооружённые силы тоже состояли из двух родов войск. Первый – мусульманский, дислоцировался в пашалыках (владениях) во главе со светской властью в лице пашей. Второй – янычары, регулярная разноплемённая пехота иноверцев, созданная султаном Османом в XIV веке из рекрутированных в основном балканских народов.
Это была замкнутая военная каста, обособленная своими правовыми нормами, не всегда покорная, готовая взбунтоваться и опрокинуть власть неугодного султана. Правители Турции в делах, значимых для империи, делали ставку на преданных народу и стране пашей, с регулярными, строго придерживавшимися структурных делений аскерами-атлы (конниками).
Одним из таких пашей-военачальников при султане Селиме III был Батал-паша. Его сила казалась неистребимой, его слава – неувядаемой, его преданность трону – непоколебимой.
Объявив войну России, султан Селим III ранней осенью 1790 года направил двадцатичетырёхтысячную армию с множеством пушек, во главе с испытанным в боях полководцем Батал-пашой на Северный Кавказ. Беспрепятственно дойдя до означенных пределов, турецкие войска переправились через Кубань. Здесь сераскир разделил свои силы на две части. Одну направил в сторону высот, через которые шла дорога на Пятигорск, другую повёл на укрепление, расположенное там, где теперь стоит город Черкесск. И тут случилось нечто неожиданное: обрадовав Екатерину II и возмутив Селима III (если верить сообщениям русских военных историков, подтверждённым и советскими учёными), двадцатичетырёхтысячное войско турок было в течение одного дня разгромлено, и кем – четырёхтысячным отрядом русских. Причём не на выгодном, укреплённом рубеже, отбивая огнём артиллерии атаки, а в течение одного дня, в открытом поле, между реками Тохтамыш и Кубанью. Впрочем, и сам командующий Батал-паша был взят в плен. Разве не свежо предание?
Если задолго до нашей эры карфагенянин Ганнибал считался знатоком стратегии и тактики, принёсших ему мировую славу при Каннах, в войне с Римом, или же если познания в военной науке позволили средневековому учёному Макиавелли писать о военном искусстве, то, наверное, живший в конце XVIII века образованный полководец, чин которого по меньшей мере равнялся генеральскому, имел какие-то познания в искусстве современного ведения боя. Даже мне, женщине, не имеющей элементарного понятия в военном искусстве, трудно поверить, что в те времена, когда вооружённые силы не были оснащены военной техникой, повышающей манёвренность войск, и орудиями, рассчитанными на массовое поражение противника, могло быть такое.
Легенду, а вернее, печальную быль донесли до наших дней пишущие и помнящие люди, передавая из поколения в поколение. Мне же о трагической истории Батал-паши рассказали старые друзья – писатели, академики, знающие языки, прошлое Кавказа и стран Ближнего Востока, в частности Турции.
Защитники Баталпашинской крепости, узнав о приближении бесчисленных сил турок, бежали. Когда авангардный отряд во главе с Батал-пашой стал приближаться к Солдатской слободе, навстречу ему выбежала девушка и стала молить о пощаде жителей слободы, ради которых она готова поплатиться жизнью. Видавший виды воевода был потрясён мужеством, самоотверженностью девушки и пленён её красотой. Могучая, безумная, бездумная, слепая сила чувств, вспыхнувшая в сердце прославленного полководца, вмиг погасила в нём воинственный пыл. Боевые действия были прекращены. Турецкие аскеры, теснимые русскими, возвращены в султанат Селима.
«Тень Аллаха» на земле разбушевалась – султан Селим не усомнился в том, что Батал-паша продался русским за золото. Он отправил послов с приказом, требуя немедленного возвращения в свой пашалык. Послов опередили друзья, предупредившие Батал-пашу о том, что, если он вернётся, его казнят.
«Если я не возвращусь, – ответил Батал-паша, – это расценят с одной стороны как трусость, с другой – как предательство, а с третьей – как продажность». И вернулся.
Пышную встречу устроили Батал-паше в Стамбуле. Щедрое застолье было в роскошном дворце Топ-Капу, а после этого Батал-паша был схвачен и брошен в дворцовую тюрьму. За недолгие дни заключения Батал-паша успел изложить на бумаге то, что отказался выслушать правитель. Жесток был приговор – напоить изменника, продавшего русским родину вместе с честью и совестью, расплавленным золотом. С мужественным спокойствием выслушал приговор Батал-паша и попросил передать письмо султану, очистить от мусора и грязи место казни, не связывать его и не класть на землю, а дать возможность самому выпить расплавленный металл. Последняя просьба смертника была удовлетворена.
Мир и война
К началу XIX века устало погрузились в старческую дремоту страны Востока. Теперь усилившиеся державы Западной Европы сначала обратили взоры на Восток, потом стали угрожать оружием. К мировому господству первой устремилась наполеоновская Франция.
Бонапарт, поработив ряд государств, вторгся в пределы России, Москву взял, но в конце концов был бит. Наполеоновская армия была разгромлена и бежала. Очистив Россию от захватчиков, русские освободили всю Европу от французского владычества. Властолюбивый корсиканец, на пятки которого наступил русский сапог, в позорном бегстве осознал, что «от великого до смешного – один шаг», так же как от могущества до ничтожества.
В связи с победой над Наполеоном международный авторитет России вырос. Но, став на путь капиталистического развития, она скоро сама превратилась в арену классовой борьбы. Охваченная волнениями внутри страны, Россия искала выхода. Выход был один – экспансия в соседние страны для расширения рынков сбыта, сфер влияния и отвлечения народных масс от мятежных дум. Россия становится черноморской державой, но этого мало. Есть ещё море Каспийское с иранской границей, а рядом единоверные армяне и грузины, земли которых попеременно прибирают к рукам, порабощая население, турки и персы. Но путь к закавказским христианам лежит через земли Чечни и Дагестана. Это между высотами Главного Кавказского хребта и морем Каспийским. По крутым перевалам на юг почти не пройти. Полоса узкого прибрежного прохода ограждена, да и народ здесь объединён одной верой.
Дагестанцы никогда не признавали власти даже единоверных персов и турок. Непокорные сыны его народов закалены в огнях войны. Это дерзкие уздени Дагестана преградили Надир-шаху путь на север. Это они на плато Турчидага схватились с закованными в латы персидскими богатырями, к изумлению окрылённого прежними победами Надира, обратили в бегство испытанных в боях мезандаранцев, ловких наездников Хорасана, прославленных пехлеванов Тегерана.
Дагестанцам нет дела до политики и мечтаний правителей великих держав. Они не хотят чужих земель, но и свои жалкие, каменистые, бесплодные клочки никому не уступят. Дагестан – это крепость, воздвигнутая самой природой. С его скалистых, крутых, заоблачных высот можно уничтожать врагов без чугунных ядер, выбрасываемых из жерл пушек, а просто осыпая градом камней. Царь урусов силён, его воины хорошо вооружены.
С первых дней назначения Алексея Петровича Ермолова наместником Кавказа и командующим войсками (1818 год) введённый им жёсткий режим в крае, с беспощадными расправами, поднял волну небывалого возмущения чеченцев, вылившуюся во второе всенародное восстание во главе с Бейбулатом, которое продолжалось до 1824 года и было жестоко подавлено.
Ермолов – герой войны 1812 года. Я вглядывалась не раз в его лицо, изображённое анфас и в профиль. Суровые, жёсткие черты, пронзительный, колючий взгляд, гордая осанка и самоуверенность физически сильного человека. О его резкости, дерзости, своенравии писали те, кто его знал близко. Племена и народы Кавказа для Ермолова – туземцы, низшая раса, которых нужно «не перевоспитывать, а истреблять». И он делал это, не щадя ни грудных детей, ни седых стариков.
Генерал-майор Николай Раевский, много лет прослуживший на Кавказе, писал: «Их вытесняли с насиженных мест, сгоняли на тяжёлые работы по возведению укреплений, дорог, мостов, а из-за нескольких человек, выступавших против произвола царских офицеров и чиновников, мстили целым племенам, уничтожая и стирая с лица земли целые аулы».
А сколько замечательных страниц, полных сочувствия, сострадания, восторга и восхищения, посвятили народам Кавказа Полежаев, Бестужев, Лермонтов, Пушкин, Толстой, другие передовые мыслители России!
Майор Семён Исадзе, начальник архива канцелярии наместника Кавказа, в своё время писал, что «одной из главных причин, заставивших соединиться племена Дагестана в общую организацию, была система, принятая Ермоловым по отношению к мусульманским провинциям».
Благородный грузин, знавший как никто другой психологию Ермолова и его задачи, направленные не только во имя интересов России, но и личной славы, пусть добытой жестокостью, прямо писал, что Ермолов стремился к уничтожению всего нехристианского на Кавказе. К великому удивлению, даже в наш просвещённый век находятся верхогляды, которые восторгаются Ермоловым, как «львом, стрелою уязвлённым», которого даже такой «жандарм Европы», как Николай I, осуждал за чрезвычайные меры по отношению к туземцам Кавказа. Ох, как любят бессильные, безвольные дикую страсть к деяниям злых «гениев», забывая, что гениальность несовместима со злом! Известно ведь, что к физической силе прибегают те, кто не способен воздействовать силою ума.
Нет и не было у меня близких друзей среди чеченцев. Но я всегда относилась сочувственно к этому многострадальному народу – так же, как и ко всем народам мира, унижаемым правителями.
Как-то уже после репатриации чеченского народа я побывала в Грозном и очень удивилась, взглянув на панно с изображением Ермолова. Надо же до такого додуматься! Не хватало ещё рядом Сталина – «защитника угнетённых народов Востока».
Вскоре после того, как народы нашей страны освободили мир от фашистского порабощения, авторитет Советского Союза стал незыблемым. По всему миру рушились националистические и религиозные перегородки нетерпимости, духовенство большинства стран стало выступать поборниками за мир и вместе со всем сознательным человечеством отстаивать национальную независимость. Именно в это время, в 1950 году, по инициативе первого секретаря ЦК Азербайджана М. Багирова, конечно же не без указания Сталина и Берии, в Баку был поднят вопрос «О пересмотре взглядов на движение мюридизма и Шамиля». Эти три большевика, не имевшие элементарных понятий в поднятом вопросе, имели силу, способную обращаться с историей как с гаремной наложницей.
Перед тем азербайджанский историк Гейдар Гусейнов написал научный труд, в котором было сказано, что азербайджанский народ в своём освободительном движении следовал примеру народов Дагестана под руководством Шамиля. Труд Гусейнова был представлен на соискание Сталинской премии. И вдруг М. Багиров вызывает к себе профессора Гусейнова, даёт ему пощёчину (а рукоприкладством Багиров занимался часто) и пригрозил, что сгноит его в подземелье за то, что он так написал. Гейдар Гусейнов вернулся домой и покончил жизнь самоубийством. Как и следовало ожидать, после этого начали появляться публикации М. Багирова, А. Даниялова в газетах и некоторых компетентных авторов в журнале «Вопросы истории» по поводу освободительного движения горцев Дагестана и Чечни под руководством Шамиля.
В полемику включилась и я. Моя статья была одобрена редколлегией журнала «Вопросы истории» и готовилась к публикации. Была она одобрена и идеологическим отделом ЦК. Но тут же сработали соответствующие механизмы. Оказывается, я, как врач, «не способна освещать вопросы, которыми занимаются профессура и государственные деятели». Хотя надо отдать должное работнику ЦК Черняеву, который поверил мне и старался помочь, но восторжествовала правящая сила.
В это время мною была начата работа над романом-трилогией «Имам Шамиль», и я решила не «искать ветра в поле» – отразить в романе факты, документально подтверждённые.
А пересмотр освободительного движения народов Дагестана под руководством Шамиля продолжался. Авантюрист в политике Берия, за подписью которого выходили брошюры, им не писанные, на сей раз не решился взяться за историю мюридизма – понимал, что Шамиль не Сталин с его тёмным прошлым. Шамиля освятили доброй славой историки Российской империи, стран Востока и Запада задолго до появления на мировой арене Советского Союза. И потому Лаврентий Берия, дорвавшийся до власти, приказал архивному управлению МВД Грузии написать научную книгу «Шамиль – ставленник султанской Турции и английских колонизаторов». Книгу сочинили, она вышла в 1953 году.
Каждый раз, беря в руки этот объёмный том, в котором без всяких интерпретаций были представлены все имеющиеся в архиве наместника Кавказа документы – донесения, рапорты, письма, газетные публикации, – захотелось с чувством благодарности склонить голову перед сотрудниками архива. Из огромного числа копий документов не было ни одного, соответствующего столь громкому названию столь солидной книги! Напротив, большинство документов говорили об обратном. Сам же невежественный инициатор фальсификации вопроса, к счастью составителей, не решившихся пойти на сделку с совестью, по-видимому, даже не соизволил хотя бы бегло пройтись по названиям глав.
Так, например, авары (аварцы) – название собирательное в этническом смысле – народ, состоящий из смеси алан-сарматов и гуннов (хуннов), то есть ариев с монголами. Если в аварских районах Дагестана в названиях селений преобладал гуннский элемент – Гинниб, Гунбет, Хунзах, то в селениях лакцев хотя и встречаются гуннские наименования – Гунн-Мункх (Кумух), Гунчукатль, но встречаются аулы, названия которых хранят тайны истории и других древних народов. Так, например, недалеко от Кумуха у вершины горы стоит аул Ур. Известно, что в XXII веке до нашей эры был совершён знаменитый Эламский погром Ура, в котором жили древние племена Ирана, а в настоящее время обитают луры и курды. Есть другой аул – Ури-Мукархи. Часть народа, живущего в нём, называется урми. Озеро Урмия (Резайе) находится в Иране – в низовьях Евфрата. Окрестности его тоже были населены с древности и не раз подвергались нашествиям.
Лакский аул Куба, в котором живут кубинцы, с этой точки зрения тоже представляет интерес. Инал-Куба, что на побережье Кубани, существовал и на Северном Кавказе. Кубинский район и сейчас благополучно существует в Азербайджане. Есть ли связь?
Аул Кума – население куминцы – разве не может иметь отношения к куманам, жившим на побережье Кумы Северного Кавказа? В Лакском районе есть аул Вихли. Существует предание, что вихлинцы переселились сюда из Сюрги (Кубачи-Зерихгерана). Своих непосредственных южных соседей – лезгин лакцы называют куралами. Не с побережий ли Куры поднялся этот народ в поисках убежища к заоблачным вершинам дагестанских гор?
После того как Персия утвердилась на кавказском побережье Каспия и преградила могучей стеной и железными воротами в самом узком месте «великий проход», Казикумух превратился в крупный торговый центр. Сюда и отсюда шли купеческие караваны на юг, в Закавказье и на Север. В этом пограничном городище оседали крупные торговцы в ожидании покупателей, являвшихся из сопредельных государств и соседних селений. Тогда ещё и в помине не было портового города Махач-Калы и появившейся в XVIII веке Темир-Хан-Шуры. А дороги вились по предгорьям, склонам гор, долинам рек, и одна из колёсных (царская) вела к Казикумуху и дальше, через горы, в пределы Азербайджана и Грузии уже по тропам.
Когда-то Кумух (Гунн-Мунк – страна гуннов) был разделён на магалы и махла (районы), а последние, в свою очередь, на джамааты – кварталы. Каждый махла жил обособленно из-за разноплемённого состава населения, с различным вероисповеданием и культовыми, жреческими храмами. Основное население – лакцы – исповедовало христианство. Но были здесь и магалы персов и армян – зороастрийцев и синагоги хазар, исповедующих иудаизм. У каждого из жителей махла были свои отдельные кладбища. Например, до наших дней сохранилось Семирдарал гаталлу – кладбище хазар-семендерцев.
Один из крупных городов Хазарии, который находился рядом с аулом Тарки на горе Тарки-Тау, возвышающейся над Каспием, был хорошо известен историкам. Христианство к лакцам проникло из Грузии, которая на много веков раньше, чем Россия, приняла православие.
С нашествием арабов во второй половине VII века и в начале VIII века ислам был утверждён во всём Дагестане. Первый мусульманский собор был возведён лакцами с помощью арабов в Казикумухе. Эта Джума-мечеть, в которой проводилось богослужение в пятничные дни, сохранилась и по сей день.
Казикумух испокон веку славился не только торговцами, купцами, искусными мастеровыми-ювелирами, но и самыми лучшими на Кавказе оружейниками. С утверждением ислама Казикумух стал религиозным центром не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа. Здесь при Джума-мечети было открыто медресе, где способные юноши изучали теологию, шариат – мусульманское право, чтобы стать со временем муллами, кадиями в других районах и округах горного края. Несмотря на усердие в соблюдении мусульманских законов, казикумухцы отличались веротерпимостью.
Лакские учёные-арабисты сыграли определённую роль в возникновении национально-освободительного движения среди горцев Дагестана. Достаточно сказать, что первым учителем, наставником, а затем главным советником имама Шамиля был учёный-арабист шейх Джамалуддин Гусейн, который сопровождал его во всех походах и породнился с имамом, выдав за него свою дочь Загидат.
Шамиль – человек высокой культуры, честный и порядочный от природы, чуждый лжи, лицемерия, корысти. Зная склонность к мошенничеству торгового люда, он долго подбирал для своего имамата министра торговли и остановился на казикумухском купце, который прослыл человеком предельно порядочным и честным в торговых делах. Шейх Джамалуддин Гусейн пополнил библиотеку зятя-имама множеством своих драгоценных томов по геологии, законоведению, истории, географии, военному делу, поэзии, литературе, вывезенных из Багдада, Каира, Стамбула, Дамаска, других крупных городов восточных государств. Книги едва вмещались в перемётные сумы, взваленные на спины сорока мулов, лошадей и ишаков.
Но обратимся к событиям, предшествовавшим возникновению мюридизма и освободительного движения, возглавляемого Шамилём. Освободительное движение народов началось с Северного Кавказа, с начала экспансии в эти края царской России. Выражалось оно поначалу в виде протестов и возмущений отдельных поселян, которых оттесняли (вернее – сгоняли) с насиженных мест казачьи войска, посланные Екатериной II, чтобы проложить путь к Каспию и утвердиться на всей Кавказской линии.
Успехам сил империи благоприятствовала этническая и религиозная раздробленность коренного населения, к тому же постоянно враждовавшего между собой.
Кроме того, племена Северного Кавказа, живущие в пограничных с Россией регионах, из-за добрососедских отношений и сложившихся контактов с русскими не проявляли особого сопротивления движению русских, если дела не касались их личных интересов.
Так, например, в Кабарде, в которой феодальные отношения получили большее развитие, князья и местная знать придерживались русской ориентации. Многие кабардинцы состояли на службе в местной царской администрации и войсках. Однако часть князей, земельные владения которых подвергались реквизиции с целью возведения крепостей, кордонных укреплений, заграждений, за которыми помимо всего находили убежище беглые кабардинские крестьяне, придерживалась турецкой ориентации и поддерживала связь с мусульманским духовенством Крыма. Естественно, возникали столкновения между ними и русскими, но опять-таки они носили эпизодический, локальный характер.
Дела на Кавказе усложнились с продвижением русских войск к Чечне. Здесь ещё прочны были родоплеменные отношения, а ислам, проникший из Дагестана, носил устойчивый характер. Насильственное вытеснение ингушей и чеченцев с плодородных земель вызвало массовое возмущение. В результате в 1785 году поднялся мятеж, который возглавил учёный-арабист шейх Мансур из аула Алты-Кабак. Против чеченцев был направлен отряд карателей, которому удалось прорваться в ставку шейха Мансура. Повстанцы вместе с мирянами укрылись в окрестных лесах и устроили засаду у дороги. Когда солдаты, предав огню селение и вытоптав поля, возвращались обратно, чеченцы напали на них, часть во главе с полковником уничтожили, остальных пленили.
Воодушевлённые этим успехом чеченские и ингушские повстанцы, предводимые шейхом Мансуром, предприняли ряд более дерзких наступательных действий, пытаясь захватить Кизляр – крупный стратегический пункт на Кавказской линии, но безуспешно. С кинжалами, шашками и пороховыми винтовками мансуровские мухаджиры были бессильны перед мощью русской артиллерии.
Мансур, покинув Чечню, ушёл в Кабарду, а после безуспешной попытки сколотить силы под зелёным знаменем пророка отправился за Кубань – ближе к туркам. Там, встретив равнодушие со стороны единоверцев, шейх пытается пойти на примирение с русскими. Но командовавший войсками генерал Потёмкин отказал Мансуру. Тогда он переметнулся в турецкий лагерь, готовящийся к войне с Россией. Война началась осенью 1787 года. Шейх Мансур прилагал все усилия с помощью религиозных проповедей поднять черкесов и карачаев против России. Но народы эти не поддержали посланца турок. При битве на реке Уруп небольшой отряд шейха был разбит, а сам предводитель бежал в Анапу.
Война продолжалась. Здесь надо сказать, что мусульманское население Кавказа не откликнулось на призывы к священной войне султана Селима III. Турки потерпели поражение. Был схвачен и шейх Мансур. По указанию Екатерины II его заточили в Шлиссельбургскую крепость, где он и окончил свои дни. Всё это я описала не только ради того, чтобы осветить предысторию шамилёвской эпохи, а главным образом в связи с одним из моих произведений – поэмой «Батал-паша».
Вероятно, из-за чрезмерно развитого чувства патриотизма и национальной гордости некоторые дореволюционные, а большей частью современные историки искажают факты и переоценивают действия сил империи, не считаясь даже с событиями, сыгравшими значительную роль в победе вооружённых сил России.
Когда-то меня заинтересовало название станицы Баталпашинской (ныне город Черкесск) и то, почему в те 1790–1791 годы, когда шла война с турками, казачью станицу вдруг назвали именем вражеского полководца, командовавшего турецкими войсками на Северном Кавказе. Как удалось выяснить в результате консультаций с известными учёными, литераторами Азербайджана, Карачая, Батал-паша – черкес по национальности. С юношеских лет находился на военной службе в войсках султанов и прославился как талантливый, бесстрашный военачальник, умноживший владения империи турок. Собственно турок в государстве Сельджука и Османа, завоевавших Переднюю Азию, часть юго-востока Балканского полуострова, омываемого Чёрным и Средиземным морями, меньшинство. Основная часть жителей этнически разнородная. Вооружённые силы тоже состояли из двух родов войск. Первый – мусульманский, дислоцировался в пашалыках (владениях) во главе со светской властью в лице пашей. Второй – янычары, регулярная разноплемённая пехота иноверцев, созданная султаном Османом в XIV веке из рекрутированных в основном балканских народов.
Это была замкнутая военная каста, обособленная своими правовыми нормами, не всегда покорная, готовая взбунтоваться и опрокинуть власть неугодного султана. Правители Турции в делах, значимых для империи, делали ставку на преданных народу и стране пашей, с регулярными, строго придерживавшимися структурных делений аскерами-атлы (конниками).
Одним из таких пашей-военачальников при султане Селиме III был Батал-паша. Его сила казалась неистребимой, его слава – неувядаемой, его преданность трону – непоколебимой.
Объявив войну России, султан Селим III ранней осенью 1790 года направил двадцатичетырёхтысячную армию с множеством пушек, во главе с испытанным в боях полководцем Батал-пашой на Северный Кавказ. Беспрепятственно дойдя до означенных пределов, турецкие войска переправились через Кубань. Здесь сераскир разделил свои силы на две части. Одну направил в сторону высот, через которые шла дорога на Пятигорск, другую повёл на укрепление, расположенное там, где теперь стоит город Черкесск. И тут случилось нечто неожиданное: обрадовав Екатерину II и возмутив Селима III (если верить сообщениям русских военных историков, подтверждённым и советскими учёными), двадцатичетырёхтысячное войско турок было в течение одного дня разгромлено, и кем – четырёхтысячным отрядом русских. Причём не на выгодном, укреплённом рубеже, отбивая огнём артиллерии атаки, а в течение одного дня, в открытом поле, между реками Тохтамыш и Кубанью. Впрочем, и сам командующий Батал-паша был взят в плен. Разве не свежо предание?
Если задолго до нашей эры карфагенянин Ганнибал считался знатоком стратегии и тактики, принёсших ему мировую славу при Каннах, в войне с Римом, или же если познания в военной науке позволили средневековому учёному Макиавелли писать о военном искусстве, то, наверное, живший в конце XVIII века образованный полководец, чин которого по меньшей мере равнялся генеральскому, имел какие-то познания в искусстве современного ведения боя. Даже мне, женщине, не имеющей элементарного понятия в военном искусстве, трудно поверить, что в те времена, когда вооружённые силы не были оснащены военной техникой, повышающей манёвренность войск, и орудиями, рассчитанными на массовое поражение противника, могло быть такое.
Легенду, а вернее, печальную быль донесли до наших дней пишущие и помнящие люди, передавая из поколения в поколение. Мне же о трагической истории Батал-паши рассказали старые друзья – писатели, академики, знающие языки, прошлое Кавказа и стран Ближнего Востока, в частности Турции.
Защитники Баталпашинской крепости, узнав о приближении бесчисленных сил турок, бежали. Когда авангардный отряд во главе с Батал-пашой стал приближаться к Солдатской слободе, навстречу ему выбежала девушка и стала молить о пощаде жителей слободы, ради которых она готова поплатиться жизнью. Видавший виды воевода был потрясён мужеством, самоотверженностью девушки и пленён её красотой. Могучая, безумная, бездумная, слепая сила чувств, вспыхнувшая в сердце прославленного полководца, вмиг погасила в нём воинственный пыл. Боевые действия были прекращены. Турецкие аскеры, теснимые русскими, возвращены в султанат Селима.
«Тень Аллаха» на земле разбушевалась – султан Селим не усомнился в том, что Батал-паша продался русским за золото. Он отправил послов с приказом, требуя немедленного возвращения в свой пашалык. Послов опередили друзья, предупредившие Батал-пашу о том, что, если он вернётся, его казнят.
«Если я не возвращусь, – ответил Батал-паша, – это расценят с одной стороны как трусость, с другой – как предательство, а с третьей – как продажность». И вернулся.
Пышную встречу устроили Батал-паше в Стамбуле. Щедрое застолье было в роскошном дворце Топ-Капу, а после этого Батал-паша был схвачен и брошен в дворцовую тюрьму. За недолгие дни заключения Батал-паша успел изложить на бумаге то, что отказался выслушать правитель. Жесток был приговор – напоить изменника, продавшего русским родину вместе с честью и совестью, расплавленным золотом. С мужественным спокойствием выслушал приговор Батал-паша и попросил передать письмо султану, очистить от мусора и грязи место казни, не связывать его и не класть на землю, а дать возможность самому выпить расплавленный металл. Последняя просьба смертника была удовлетворена.
Мир и война
К началу XIX века устало погрузились в старческую дремоту страны Востока. Теперь усилившиеся державы Западной Европы сначала обратили взоры на Восток, потом стали угрожать оружием. К мировому господству первой устремилась наполеоновская Франция.
Бонапарт, поработив ряд государств, вторгся в пределы России, Москву взял, но в конце концов был бит. Наполеоновская армия была разгромлена и бежала. Очистив Россию от захватчиков, русские освободили всю Европу от французского владычества. Властолюбивый корсиканец, на пятки которого наступил русский сапог, в позорном бегстве осознал, что «от великого до смешного – один шаг», так же как от могущества до ничтожества.
В связи с победой над Наполеоном международный авторитет России вырос. Но, став на путь капиталистического развития, она скоро сама превратилась в арену классовой борьбы. Охваченная волнениями внутри страны, Россия искала выхода. Выход был один – экспансия в соседние страны для расширения рынков сбыта, сфер влияния и отвлечения народных масс от мятежных дум. Россия становится черноморской державой, но этого мало. Есть ещё море Каспийское с иранской границей, а рядом единоверные армяне и грузины, земли которых попеременно прибирают к рукам, порабощая население, турки и персы. Но путь к закавказским христианам лежит через земли Чечни и Дагестана. Это между высотами Главного Кавказского хребта и морем Каспийским. По крутым перевалам на юг почти не пройти. Полоса узкого прибрежного прохода ограждена, да и народ здесь объединён одной верой.
Дагестанцы никогда не признавали власти даже единоверных персов и турок. Непокорные сыны его народов закалены в огнях войны. Это дерзкие уздени Дагестана преградили Надир-шаху путь на север. Это они на плато Турчидага схватились с закованными в латы персидскими богатырями, к изумлению окрылённого прежними победами Надира, обратили в бегство испытанных в боях мезандаранцев, ловких наездников Хорасана, прославленных пехлеванов Тегерана.
Дагестанцам нет дела до политики и мечтаний правителей великих держав. Они не хотят чужих земель, но и свои жалкие, каменистые, бесплодные клочки никому не уступят. Дагестан – это крепость, воздвигнутая самой природой. С его скалистых, крутых, заоблачных высот можно уничтожать врагов без чугунных ядер, выбрасываемых из жерл пушек, а просто осыпая градом камней. Царь урусов силён, его воины хорошо вооружены.
С первых дней назначения Алексея Петровича Ермолова наместником Кавказа и командующим войсками (1818 год) введённый им жёсткий режим в крае, с беспощадными расправами, поднял волну небывалого возмущения чеченцев, вылившуюся во второе всенародное восстание во главе с Бейбулатом, которое продолжалось до 1824 года и было жестоко подавлено.
Ермолов – герой войны 1812 года. Я вглядывалась не раз в его лицо, изображённое анфас и в профиль. Суровые, жёсткие черты, пронзительный, колючий взгляд, гордая осанка и самоуверенность физически сильного человека. О его резкости, дерзости, своенравии писали те, кто его знал близко. Племена и народы Кавказа для Ермолова – туземцы, низшая раса, которых нужно «не перевоспитывать, а истреблять». И он делал это, не щадя ни грудных детей, ни седых стариков.
Генерал-майор Николай Раевский, много лет прослуживший на Кавказе, писал: «Их вытесняли с насиженных мест, сгоняли на тяжёлые работы по возведению укреплений, дорог, мостов, а из-за нескольких человек, выступавших против произвола царских офицеров и чиновников, мстили целым племенам, уничтожая и стирая с лица земли целые аулы».
А сколько замечательных страниц, полных сочувствия, сострадания, восторга и восхищения, посвятили народам Кавказа Полежаев, Бестужев, Лермонтов, Пушкин, Толстой, другие передовые мыслители России!
Майор Семён Исадзе, начальник архива канцелярии наместника Кавказа, в своё время писал, что «одной из главных причин, заставивших соединиться племена Дагестана в общую организацию, была система, принятая Ермоловым по отношению к мусульманским провинциям».
Благородный грузин, знавший как никто другой психологию Ермолова и его задачи, направленные не только во имя интересов России, но и личной славы, пусть добытой жестокостью, прямо писал, что Ермолов стремился к уничтожению всего нехристианского на Кавказе. К великому удивлению, даже в наш просвещённый век находятся верхогляды, которые восторгаются Ермоловым, как «львом, стрелою уязвлённым», которого даже такой «жандарм Европы», как Николай I, осуждал за чрезвычайные меры по отношению к туземцам Кавказа. Ох, как любят бессильные, безвольные дикую страсть к деяниям злых «гениев», забывая, что гениальность несовместима со злом! Известно ведь, что к физической силе прибегают те, кто не способен воздействовать силою ума.
Нет и не было у меня близких друзей среди чеченцев. Но я всегда относилась сочувственно к этому многострадальному народу – так же, как и ко всем народам мира, унижаемым правителями.
Как-то уже после репатриации чеченского народа я побывала в Грозном и очень удивилась, взглянув на панно с изображением Ермолова. Надо же до такого додуматься! Не хватало ещё рядом Сталина – «защитника угнетённых народов Востока».
Вскоре после того, как народы нашей страны освободили мир от фашистского порабощения, авторитет Советского Союза стал незыблемым. По всему миру рушились националистические и религиозные перегородки нетерпимости, духовенство большинства стран стало выступать поборниками за мир и вместе со всем сознательным человечеством отстаивать национальную независимость. Именно в это время, в 1950 году, по инициативе первого секретаря ЦК Азербайджана М. Багирова, конечно же не без указания Сталина и Берии, в Баку был поднят вопрос «О пересмотре взглядов на движение мюридизма и Шамиля». Эти три большевика, не имевшие элементарных понятий в поднятом вопросе, имели силу, способную обращаться с историей как с гаремной наложницей.
Перед тем азербайджанский историк Гейдар Гусейнов написал научный труд, в котором было сказано, что азербайджанский народ в своём освободительном движении следовал примеру народов Дагестана под руководством Шамиля. Труд Гусейнова был представлен на соискание Сталинской премии. И вдруг М. Багиров вызывает к себе профессора Гусейнова, даёт ему пощёчину (а рукоприкладством Багиров занимался часто) и пригрозил, что сгноит его в подземелье за то, что он так написал. Гейдар Гусейнов вернулся домой и покончил жизнь самоубийством. Как и следовало ожидать, после этого начали появляться публикации М. Багирова, А. Даниялова в газетах и некоторых компетентных авторов в журнале «Вопросы истории» по поводу освободительного движения горцев Дагестана и Чечни под руководством Шамиля.
В полемику включилась и я. Моя статья была одобрена редколлегией журнала «Вопросы истории» и готовилась к публикации. Была она одобрена и идеологическим отделом ЦК. Но тут же сработали соответствующие механизмы. Оказывается, я, как врач, «не способна освещать вопросы, которыми занимаются профессура и государственные деятели». Хотя надо отдать должное работнику ЦК Черняеву, который поверил мне и старался помочь, но восторжествовала правящая сила.
В это время мною была начата работа над романом-трилогией «Имам Шамиль», и я решила не «искать ветра в поле» – отразить в романе факты, документально подтверждённые.
А пересмотр освободительного движения народов Дагестана под руководством Шамиля продолжался. Авантюрист в политике Берия, за подписью которого выходили брошюры, им не писанные, на сей раз не решился взяться за историю мюридизма – понимал, что Шамиль не Сталин с его тёмным прошлым. Шамиля освятили доброй славой историки Российской империи, стран Востока и Запада задолго до появления на мировой арене Советского Союза. И потому Лаврентий Берия, дорвавшийся до власти, приказал архивному управлению МВД Грузии написать научную книгу «Шамиль – ставленник султанской Турции и английских колонизаторов». Книгу сочинили, она вышла в 1953 году.
Каждый раз, беря в руки этот объёмный том, в котором без всяких интерпретаций были представлены все имеющиеся в архиве наместника Кавказа документы – донесения, рапорты, письма, газетные публикации, – захотелось с чувством благодарности склонить голову перед сотрудниками архива. Из огромного числа копий документов не было ни одного, соответствующего столь громкому названию столь солидной книги! Напротив, большинство документов говорили об обратном. Сам же невежественный инициатор фальсификации вопроса, к счастью составителей, не решившихся пойти на сделку с совестью, по-видимому, даже не соизволил хотя бы бегло пройтись по названиям глав.