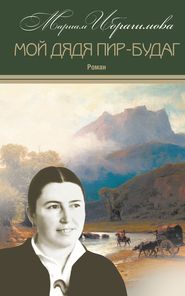По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дань ненасытному времени (повесть, рассказы, очерки)
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В кабинете, как обычно, за столом Смирнов. Я поздоровался. Он сухо кивнул головой.
– Разрешите сесть?
– Садись, – с трудом выдохнул он из груди.
Я смотрю ему в лицо. Он отводит взгляд. Губы сжаты, лицо бледно, на правой щеке у выступа скулы нервно подёргивается мускул.
Я ничего не могу понять. Эта резкая перемена в поведении не только озадачила, насторожила, но и взволновала. Я перевёл взгляд на свои руки, лежащие на коленях, и стал ждать.
За дверью послышались быстрые шаги. С шумом распахнулись двери кабинета. Вошли трое, все в форме. Один из них подошёл ко мне вплотную. Я поднял голову. Мы впились глазами друг в друга. Смуглое, сухощавое лицо инквизитора, горящие ненавистью глаза, бесформенные, тонкие губы, искажённые дьявольской улыбкой, превратились в плотную складку.
Вдруг складка разошлась, показывая мелкий, редкий частокол жёлтых прокуренных зубов, через которые он стал процеживать:
– Подлец! До каких пор ты будешь отпираться, выдавать троцкистско-бухаринскую пропаганду за случайно высказанное мнение.
Он, словно стервятник – крылья, поднял надо мной обе руки с согнутыми, как когти, пальцами.
Я отшатнулся.
– Да если бы не Сталинская конституция, я бы разорвал тебя на части вот этими руками!
Я вскочил со стула, и, в свою очередь, окинув его презрительным взглядом, дерзко заметил:
– Так, значит вы недовольны Сталинской конституцией, нечего сказать, чекист!
Он с площадной бранью кинулся на меня. Ударом ноги ниже пояса я отшвырнул его: если бы двое стоящих сзади не подхватили, он бы ударился об стену.
И в это время раздался выстрел.
Я глянул на Смирнова и заметил, как рука его медленно опустилась от виска, из неё выпал браунинг и сам он мешковато стал валиться на бок.
– Саша, дорогой! – не своим голосом закричал я, кинулся к нему.
Но меня схватили. Я вырвался, изрыгая из себя потоки самой гнусной площадной брани и проклятий, каких никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не произносил.
Во мне проснулся зверь, мне хотелось рвать, метать, бить, ломать. Но множество крепких рук сковали меня, скрутили руки за спину, связали ремнями, свалили на пол, а ноги, которыми я пытался угодить в скрутивших меня, тоже связали. Не знаю, сколько я катался на полу, скрежетал зубами, как пойманный зверь, пока силы не покинули меня.
Судила меня «тройка». Приговор – десять лет строгой изоляции.
Через несколько дней после вынесения приговора меня, вместе с парией других осуждённых, ночью посадили в грузовик и повезли в сторону вокзала. Февральская метель кружила по пустынным улицам. Ледяной холод пронизывал всё тело. Съёжившись, мы старались греться друг о друга.
Длинный товарняк стоял в глухом и плохо освещённом тупике.
Автомашину подкатили почти к самому составу Под бдительными взорами конвоиров, ставших в два ряда, нас по одному стали ссаживать с кузова и тут же, под их обрывистые окрики «поживей в вагоны», мы взбирались в вагон товарняка. На полу мрачного пульмана была расстелена солома. Арестанты – те, кто вошли первыми – усаживались у стен, остальные – где поудобнее; молча, бесшумно.
Когда затворили тяжёлую дверь и послышался лязг железного затвора, те, кто оказался у входа, поднялись и потянулись к решёткам высоких, маленьких окошек. Видимо, каждому хотелось окинуть прощальным взглядом погружённую в сон окраину родного города.
Разговаривали шёпотом, словно боясь о чём-то проговориться. Послышался свисток дежурного, поезд дрогнул и тронулся. Под монотонное постукивание колёс, постепенно набирая скорость, состав покатил полем на северо-запад.
Трудно подобрать слова, чтоб описать моё душевное состояние. Остаток ночи я провёл в какой-то тягостной полудрёме, ворочаясь с боку на бок.
Сумрачный рассвет, серое утро… Лишь к полудню кто-то привстал, присел, поднялся на ноги и с безразличием огляделся вокруг.
Но жизнь есть жизнь, и любая обстановка становится переносимой – тем более среди людей, связанных одной участью. Великий дар человеческой природы – речь – сближает людей, никогда не знавших друг друга, вызывает сочувствие, симпатию, взаимно утешает даже самых угрюмых.
Встречаются и такие, которых не угнетает никакая обстановка – не унывают в самых тяжёлых условиях, своим оптимизмом, покладистым веселым характером приносят успокоение. К счастью, такой человек оказался рядом со мной.
Это был небольшого роста, незаметный человечек. Всю ночь, лёжа рядом, он старался прижаться к моей широкой спине, и я, не зная его прежде, почему-то подумал, что это молодой парнишка – легко одетый, наверное, мёрзнет. Как только я шевельнулся, он приподнялся, и словно извиняясь, с виноватой добродушной улыбкой воскликнул:
– Привет, братцы!
Кое-кто буркнул в ответ, а некоторые даже не повернули головы. Я поздоровался и стал бесцеремонно разглядывать его.
Это был не юноша, а мужчина средних лет и, как я уже сказал, внешне тщедушный. Пока я его разглядывал, он с волчьим аппетитом уминал часть своей пайки, запивая водой из фляжки.
Когда с немудрёной трапезой было покончено, сосед вытер рот тряпицей, которую достал из кармана, затем, обратившись ко мне, сказал:
– Не будете возражать, если я закурю?
– Курите, курят же все другие и никого не спрашивают.
– Да, оно-то так, но есть и мужчины, которые не выносят дыма, тем более махорочного.
– Мы – не в мягком вагоне, привыкли выносить всё, – махнув рукой, сказал я.
Прикурив самокрутку, он с удовольствием затянулся ароматным дымком, затем, поглядев на меня внимательно, протянул руку:
– Будем знакомы, Иван Семёнович, поэт.
Я пожал его небольшую кисть с длинными тонкими пальцами:
– Магомед-Гирей, историк.
К тому времени в вагоне почти все перезнакомились друг с другом и предались беседам в клубах махорочного дыма.
Весёлый по характеру не унывающий, Иван Семёнович оказался словоохотливым собеседником. Этот, как я убедился, интеллектуал, не лишённый тонкого юмора, несмотря на свою серенькую внешность, становился ярким и каким-то необыкновенным, как только начинал говорить. Быть может, так казалось. Мне нравились остроумные люди, умеющие вести себя, не подчёркивая своего превосходства и не унижая достоинства других. Я сразу почувствовал, что общение с этим человеком будет доставлять мне удовольствие.
Немногие люди бывают самокритичны. Большинство из них, – в особенности посредственные и ограниченные – влюблены в себя, не сомневаются в своём превосходстве над остальными.
Не зря сказал какой-то мудрец, что дурак, осознающий, что он дурак – не дурак. К счастью, я тоже часто сомневался в своих умственных способностях, относил себя к людям обыкновенным и твёрдо помнил арабскую поговорку – жизнь, от колыбели до могилы, есть наука.
Мне доставляло удовольствие общение с умными людьми – в особенности со стариками, умудрёнными опытом и знанием жизни, теми, кто превосходил меня.
В том, что Иван Семёнович превосходит меня в образованности, культуре, я понял с первого часа и потянулся к нему. Однако внешне я старался держаться независимо, не желая поддаваться первому впечатлению.
Прекрасно знал Иван Семёнович литературу – классическую, отечественную, зарубежную, современную, историческую, западную и восточную, европейскую и азиатскую. Он хорошо разбирался в юриспруденции, истории, астрономии, библии, музыке.
Этот тщедушный, ничем не приметный внешне человек в течение нескольких дней завладел душами почти всех временных обитателей пульмана. Его правдивые и вымышленные весёлые рассказы и анекдоты на все случаи жизни можно было слушать сутками. Подносил он их артистично, меняя говор, интонации голоса, акцент. Вызывая гомерический хохот, он никогда не смеялся сам.
– Разрешите сесть?
– Садись, – с трудом выдохнул он из груди.
Я смотрю ему в лицо. Он отводит взгляд. Губы сжаты, лицо бледно, на правой щеке у выступа скулы нервно подёргивается мускул.
Я ничего не могу понять. Эта резкая перемена в поведении не только озадачила, насторожила, но и взволновала. Я перевёл взгляд на свои руки, лежащие на коленях, и стал ждать.
За дверью послышались быстрые шаги. С шумом распахнулись двери кабинета. Вошли трое, все в форме. Один из них подошёл ко мне вплотную. Я поднял голову. Мы впились глазами друг в друга. Смуглое, сухощавое лицо инквизитора, горящие ненавистью глаза, бесформенные, тонкие губы, искажённые дьявольской улыбкой, превратились в плотную складку.
Вдруг складка разошлась, показывая мелкий, редкий частокол жёлтых прокуренных зубов, через которые он стал процеживать:
– Подлец! До каких пор ты будешь отпираться, выдавать троцкистско-бухаринскую пропаганду за случайно высказанное мнение.
Он, словно стервятник – крылья, поднял надо мной обе руки с согнутыми, как когти, пальцами.
Я отшатнулся.
– Да если бы не Сталинская конституция, я бы разорвал тебя на части вот этими руками!
Я вскочил со стула, и, в свою очередь, окинув его презрительным взглядом, дерзко заметил:
– Так, значит вы недовольны Сталинской конституцией, нечего сказать, чекист!
Он с площадной бранью кинулся на меня. Ударом ноги ниже пояса я отшвырнул его: если бы двое стоящих сзади не подхватили, он бы ударился об стену.
И в это время раздался выстрел.
Я глянул на Смирнова и заметил, как рука его медленно опустилась от виска, из неё выпал браунинг и сам он мешковато стал валиться на бок.
– Саша, дорогой! – не своим голосом закричал я, кинулся к нему.
Но меня схватили. Я вырвался, изрыгая из себя потоки самой гнусной площадной брани и проклятий, каких никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не произносил.
Во мне проснулся зверь, мне хотелось рвать, метать, бить, ломать. Но множество крепких рук сковали меня, скрутили руки за спину, связали ремнями, свалили на пол, а ноги, которыми я пытался угодить в скрутивших меня, тоже связали. Не знаю, сколько я катался на полу, скрежетал зубами, как пойманный зверь, пока силы не покинули меня.
Судила меня «тройка». Приговор – десять лет строгой изоляции.
Через несколько дней после вынесения приговора меня, вместе с парией других осуждённых, ночью посадили в грузовик и повезли в сторону вокзала. Февральская метель кружила по пустынным улицам. Ледяной холод пронизывал всё тело. Съёжившись, мы старались греться друг о друга.
Длинный товарняк стоял в глухом и плохо освещённом тупике.
Автомашину подкатили почти к самому составу Под бдительными взорами конвоиров, ставших в два ряда, нас по одному стали ссаживать с кузова и тут же, под их обрывистые окрики «поживей в вагоны», мы взбирались в вагон товарняка. На полу мрачного пульмана была расстелена солома. Арестанты – те, кто вошли первыми – усаживались у стен, остальные – где поудобнее; молча, бесшумно.
Когда затворили тяжёлую дверь и послышался лязг железного затвора, те, кто оказался у входа, поднялись и потянулись к решёткам высоких, маленьких окошек. Видимо, каждому хотелось окинуть прощальным взглядом погружённую в сон окраину родного города.
Разговаривали шёпотом, словно боясь о чём-то проговориться. Послышался свисток дежурного, поезд дрогнул и тронулся. Под монотонное постукивание колёс, постепенно набирая скорость, состав покатил полем на северо-запад.
Трудно подобрать слова, чтоб описать моё душевное состояние. Остаток ночи я провёл в какой-то тягостной полудрёме, ворочаясь с боку на бок.
Сумрачный рассвет, серое утро… Лишь к полудню кто-то привстал, присел, поднялся на ноги и с безразличием огляделся вокруг.
Но жизнь есть жизнь, и любая обстановка становится переносимой – тем более среди людей, связанных одной участью. Великий дар человеческой природы – речь – сближает людей, никогда не знавших друг друга, вызывает сочувствие, симпатию, взаимно утешает даже самых угрюмых.
Встречаются и такие, которых не угнетает никакая обстановка – не унывают в самых тяжёлых условиях, своим оптимизмом, покладистым веселым характером приносят успокоение. К счастью, такой человек оказался рядом со мной.
Это был небольшого роста, незаметный человечек. Всю ночь, лёжа рядом, он старался прижаться к моей широкой спине, и я, не зная его прежде, почему-то подумал, что это молодой парнишка – легко одетый, наверное, мёрзнет. Как только я шевельнулся, он приподнялся, и словно извиняясь, с виноватой добродушной улыбкой воскликнул:
– Привет, братцы!
Кое-кто буркнул в ответ, а некоторые даже не повернули головы. Я поздоровался и стал бесцеремонно разглядывать его.
Это был не юноша, а мужчина средних лет и, как я уже сказал, внешне тщедушный. Пока я его разглядывал, он с волчьим аппетитом уминал часть своей пайки, запивая водой из фляжки.
Когда с немудрёной трапезой было покончено, сосед вытер рот тряпицей, которую достал из кармана, затем, обратившись ко мне, сказал:
– Не будете возражать, если я закурю?
– Курите, курят же все другие и никого не спрашивают.
– Да, оно-то так, но есть и мужчины, которые не выносят дыма, тем более махорочного.
– Мы – не в мягком вагоне, привыкли выносить всё, – махнув рукой, сказал я.
Прикурив самокрутку, он с удовольствием затянулся ароматным дымком, затем, поглядев на меня внимательно, протянул руку:
– Будем знакомы, Иван Семёнович, поэт.
Я пожал его небольшую кисть с длинными тонкими пальцами:
– Магомед-Гирей, историк.
К тому времени в вагоне почти все перезнакомились друг с другом и предались беседам в клубах махорочного дыма.
Весёлый по характеру не унывающий, Иван Семёнович оказался словоохотливым собеседником. Этот, как я убедился, интеллектуал, не лишённый тонкого юмора, несмотря на свою серенькую внешность, становился ярким и каким-то необыкновенным, как только начинал говорить. Быть может, так казалось. Мне нравились остроумные люди, умеющие вести себя, не подчёркивая своего превосходства и не унижая достоинства других. Я сразу почувствовал, что общение с этим человеком будет доставлять мне удовольствие.
Немногие люди бывают самокритичны. Большинство из них, – в особенности посредственные и ограниченные – влюблены в себя, не сомневаются в своём превосходстве над остальными.
Не зря сказал какой-то мудрец, что дурак, осознающий, что он дурак – не дурак. К счастью, я тоже часто сомневался в своих умственных способностях, относил себя к людям обыкновенным и твёрдо помнил арабскую поговорку – жизнь, от колыбели до могилы, есть наука.
Мне доставляло удовольствие общение с умными людьми – в особенности со стариками, умудрёнными опытом и знанием жизни, теми, кто превосходил меня.
В том, что Иван Семёнович превосходит меня в образованности, культуре, я понял с первого часа и потянулся к нему. Однако внешне я старался держаться независимо, не желая поддаваться первому впечатлению.
Прекрасно знал Иван Семёнович литературу – классическую, отечественную, зарубежную, современную, историческую, западную и восточную, европейскую и азиатскую. Он хорошо разбирался в юриспруденции, истории, астрономии, библии, музыке.
Этот тщедушный, ничем не приметный внешне человек в течение нескольких дней завладел душами почти всех временных обитателей пульмана. Его правдивые и вымышленные весёлые рассказы и анекдоты на все случаи жизни можно было слушать сутками. Подносил он их артистично, меняя говор, интонации голоса, акцент. Вызывая гомерический хохот, он никогда не смеялся сам.