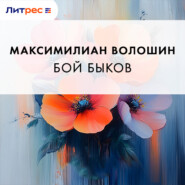По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поэзия и революция
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отсюда я заключаю, что такое понимание поэмы общераспространено и не только среди темной интеллигенции, но и в высших литературных кругах. Неужели никто из слышавших поэму не дал себе труда вчитаться в ее смысл? Какое типично русское равнодушие к художественному произведению, какое пренебрежение к оттенкам чужой мысли!
Вполне понятному шуму, создавшемуся вокруг прекрасной поэмы Блока, это дает оттенок возмущения и враждебности вроде того, которым мы реагировали на утверждение одной германской газеты в начале войны, что если бы Христос теперь сошел на землю, то он занял бы подобающее Ему место у германского пулемета, или на знаменитую телеграмму из Палестины: «Укрепление Иерусалима продолжается. Голгофа бетонирована».
Вокруг «Двенадцати» создалось прискорбное недоумение, которое мешает настоящему восприятию и впечатлению поэмы. Отчего оно возникло? Говорят, что Блок – большевик, вероятно, потому, что последние его произведения печатаются в альманахе левых эсеров – «Скифы», что он дружен с большевистскими заправилами, но не думаю, чтобы он мог быть большевиком по программе, по существу, потому что какое дело такому поэту, как Блок, до остервенелой борьбы двух таких далеких ему человеческих классов, как так называемые буржуазия и пролетариат, которые свои чисто личные и притом исключительно материальные счеты хотят раздуть в мировое событие, при этом будучи, в сущности, друг на друга вполне похожи как жадностью к материальным благам и комфорту, так и своим невежеством, косностью и полным отсутствием идеи духовной свободы. Для поэта в этой борьбе могут быть интересны только два порядка явлений: великие мировые силы, увлекающие людей помимо их воли, как для Верхарна, или трагедия отдельной человеческой души, кинутой в темный лабиринт страстей и заблуждений и в нем потерявшей своего Христа, как для Блока в данном случае.
Двенадцать блоковских красногвардейцев изображены без всяких прикрас и идеализации («На спину б надо бубновый туз!»); никаких данных, кроме числа 12, на то, чтобы счесть их апостолами, – в поэме нет. И потом, что же это за апостолы, которые выходят охотиться на своего Христа?
Красный флаг в руках у Христа? В этом тоже нет никакой кощунственной двусмыслицы. Кровавый флаг – это новый крест Христа, символ его теперешних распятий.
Можно только радоваться тому, что Блок дружит с большевиками, потому что из впечатлений того лагеря возникла эта прекрасная лирическая поэма, являющаяся драгоценным вкладом в русскую поэзию. И, если в ней нет ни панегирика, ни апофеоза большевизма, все же она является милосердной представительницей за темную и заблудшую душу русской разиновщины.
Сейчас ее использывают, как произведение большевистское, с таким же успехом ее можно использовать, как памфлет против большевизма, исказив и подчеркнув другие ее стороны. Но ее художественная ценность, к счастью, стоит по ту сторону этих временных колебаний политической биржи.
Насколько Блок большевик, можно судить по другому чисто политическому и программному стихотворению его – «Скифы». (Может быть, за это время Блок написал и многое другое, но ко мне судьба принесла только эти два стихотворения.) «Скифы» сделаны превосходно в том широком риторическом стиле, который утвержден в русской поэзии пушкинским «Клеветникам России».
Эпиграфом оно имеет слова Владимира Соловьева:
Панмонголизм, – хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно,
Эпиграф немного неудачен; он направляет мысль по ложному следу (как и заглавие поэмы «Двенадцать»).
Вернее было бы, если бы Блок взял эпиграфом одну из «Парижских эпиграмм» Вячеслава Иванова («Кормчие звезды» – «Скиф пляшет»):
Нам – нестройным – своеволье!
Нам – кочевье! Нам – простор!
Нам – безмежье! Нам – раздолье!
Грани – вам! И граней спор!
В нас заложена алчба
Вам неведомой свободы,
Ваши веки – только годы,
Где заносят непогоды
Безымянные гроба!
Эти стихи вернее определяют тенденцию и родословную «Скифов».
Основная линия утверждений Блока такова: Да, мы – Скифы. Да, мы – Азиаты! Как послушные рабы мы долго держали щит между монголами и Европой. Вы же в это время копили сокровища и лили пушки. Теперь настала катастрофа. Старый мир, пока ты не погиб, разреши загадку Сфинкса – России, которая упорно глядит в тебя с ненавистью и любовью. Мы любим и понимаем сокровища вашего искусства и вашей мысли, но в нас жива дикая воля Азии. Пока не поздно – от ужасов войны придите в наши мирные объятья. Если же нет, то берегитесь: мы расступимся, мы обернемся к вам своею азиатской рожей и очистим место для вашей последней борьбы с монголами, но сами не вступим в бой и не сдвинемся, когда новый Гунн будет жечь ваши города и жарить мясо белых братьев, и проклятия потомства тогда да падут на вашу голову.
В последний раз опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира.
Все это достаточно искажает истинное положение вещей и полно теми условными лжами, которыми русская Революция хочет прикрыть и оправдать – Брестский мир. Тут и приглашение от ужасов войны прийти «в наши мирные объятья» (мирные объятья современной России с ее поножовщиной, террором, разиновщиной!); тут и кочевники – Скифы (то есть свободные наездники и бездельники), приглашающие старый индустриальный мир Европы на «светлый, братский пир труда»; тут и горделивое утверждение – «и нам доступно вероломство!», тут и угроза бросить свой сторожевой пост между Европой и Азией, как будто бы народы вольны отказываться от своего провиденциального долга; тут и чисто германский дипломатический выверт: тогда вы сами во всем виноваты – «Века, века вас будет проклинать больное, позднее потомство».
И в то же время стихотворение прекрасно!
В нем есть незабываемые стихи. Великолепно начало:
Мильоны – вас. Нас тьмы, и тьмы, и тьмы!
И строки:
Мы любим плоть – и вкус ее и цвет,
И душный, смертный плоти запах.
И дальше:
Привыкли мы, хватая под уздцы,
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые резцы,
И усмирять рабынь строптивых.
И еще:
Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся, – мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей…
Но каким же образом может быть прекрасно стихотворение, столь искажающее историческую правду и столь неверное и столь тенденциозное? Потому же, почему прекрасна поэма «Двенадцать». Там Блок уступил свой голос сознательно глухонемой душе двенадцати безликих людей, в темноте вьюжной ночи вершащих свое дело распада и в глубине темного сердца тоскующих о Христе, которого они распинают, – здесь Блок бессознательно является словоносцем обширной части русской интеллигенции. В «Скифах» нет объективной правды (да ее и не может быть в политическом стихотворении), но в них дана субъективная – характеризующая правда.
Ведь и «Клеветникам России» сплошь неверно по своей политической тенденции, но тем не менее мы им восторгаемся, как великолепной и верной характеристикой политической веры официальной России царствования Николая I.
«Скифы» проникнуты духом русского большевизма, но отнюдь не партийного, социал-демократического большевизма, а того гораздо более глубокого чисто русского состояния духа, в котором перемешаны и славянофильство, и восхваление своего варварства в противовес гнилому Западу, и чисто русская антигосударственность, роднящая любого сановника старого режима с любым современным демагогом, в котором академичный и монархический Вячеслав Иванов «Кормчих звездах» встречается с теперешними левыми эсерами. В блоковских «Скифах» сложная и исполненная противоречий психология того поколения, которое заключило или допустило Брестский мир, дана в великолепных и очень точных формулах.
Блок – поэт бессознательный и притом поэт всем своим существом, в котором, как в раковине, звучат шумы океанов, и он часто сам не знает, кто и что говорит через него. Вдохновение в божественном смысле этого слова ведет его помимо его воли и намерений.
В одном только он ошибается глубоко, когда называет свою лиру – варварской. Это неверно. Лира Блока глубоко культурна, утонченна и преисполнена оттенков, о чем бы он ни писал, каким бы голосам мира ни отдавал свою симфоническую, лунную душу.
Эстетическая культурность Блока чувствуется особенно ярко рядом с действительно варварской по своей мощи и непосредственности поэзией Эренбурга.
Эренбург – поэт пророческих видений, поэт гневного сарказма, циничный и стыдливый, грубый и нежный, жестокий и жалостливый, в своих религиозных исканиях всегда находящийся на грани разрыва с искусством вообще и только против воли остающийся в границах поэзии, которые всегда стремится преступить, почти презирая себя за то, что он еще поэт. Он наделен безжалостно четким видением действительности, которая постоянно прорывается и разверзается под его взглядом, он реалист и мистик, подобно испанским поэтам – монахам высокого средневековья.
Стоит только развернуть его стихотворение «Пугачья кровь» для того, чтобы почувствовать эти стороны его поэзии. «Пугачья кровь» в сущности не относится к книге «Молитва о России»: оно единственное стихотворение этого сборника, написанное до революции – в 1915 году в Париже. Оно относится к его «Книге о канунах», варварски искромсанной цензурой в 1916 году.
«Пугачья кровь» – это потрясающее пророчество о великой разрухе русской земли, и, конечно, сам автор не ожидал, что оно осуществится так быстро и в такой полноте, что этот шабаш вокруг Пугачьей Головы, посаженной на кол – «уж пойдем, пойдем, твою мать! по Пугачьей крови плясать» – воплотится немедленно. Все стихотворение – один кликушечий вопль: «Прорастут, прорастут твои рваные рученьки, и покроется земля злаками горючими… И пойдут парни семечки грызть, тешиться, и станет тесно в лесу от повешенных. И кого за шею и кого за ноги, и покроется Москва смрадными ямами… И от нашей родины останется икра рачья и на высоком колу – голова Пугачья».
Мог ли он думать, что не исполнится еще трех лет, как он воочию увидит воззванную им картину:
И стоит, и стоит Москва,
Над Москвой Пугачья голова.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.
В моей статье «Судьба Верхарна» я говорил подробно, в какие трагические конфликты с действительностью попали слепые провидцы-поэты, дождавшись осуществления своих пророческих видений. Верхарн, провидевший великую катастрофу европейской войны в патетических видениях своих первых книг, оказался бессилен, как поэт, перед ликом осуществившейся войны.
Но Верхарн только в подсознательном своем творчестве был одарен мистическими провидениями, а в дневном своем разуме разделял все научные суеверия своего времени. Ко времени наступления катастрофы он позабыл о существовании в недрах европейской культуры тех катастрофических сил, о которых он первый заговорил в поэзии.