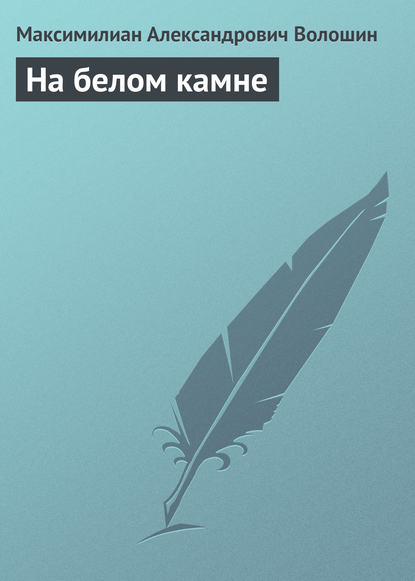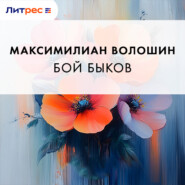По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На белом камне
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Максимилиан Александрович Волошин
«Есть состояния в истории человечества, когда является потребность заглянуть в будущее. Как будто разверзается бездна времени и в ней шевелятся неясные призраки наступающего. Как будто физически ощущается та точка, из которой лучатся направления всех возможностей и есть вера в выбор. Изучая сложный рисунок пути, по которому шел человеческий дух, острый ум мечтает прочесть в нем руны будущего…»
Максимилиан Волошин
На белом камне
(Anatole France. Sur la pierre blanche. Edit. Calmann-Lеvy. Paris. 1905)
Есть состояния в истории человечества, когда является потребность заглянуть в будущее. Как будто разверзается бездна времени и в ней шевелятся неясные призраки наступающего. Как будто физически ощущается та точка, из которой лучатся направления всех возможностей и есть вера в выбор. Изучая сложный рисунок пути, по которому шел человеческий дух, острый ум мечтает прочесть в нем руны будущего.
У Анатоля Франса есть книга, которую по ее абсолютному значению, по важности вопросов, обсуждаемых ею, можно сопоставить только с «Тремя разговорами» Владимира Соловьева. Славянский пророк и утонченный скептик латинской расы, конечно, не совпадают ни в одном своем положении, но и та и другая книга вызваны одним и тем же чувством: мы стоим на пороге, и сквозь четвероугольник двери мерцают неизвестные звезды. Отношения прошлого и будущего, разумеется, неодинаковы в этих книгах. Апокалипсические молнии откровений, освещающие предельные судьбы человечества, чужды Анатолю Франсу. Его линия будущего очень невелика, логична и проведена нетвердой рукой. Но зато скальпель, которым он расчленяет прошлое, проникает глубоко уверенно и не ошибается в своих рассечениях. Во всем, что касается прошлого, видна рука гениального оператора.
«Было так, как будто я спал на белом камне среди толпы снов» – ставит Анатоль Франс эпиграфом слова Филострата.
Как культурные римляне могли относиться к зарождавшемуся христианству? Мог ли острый и наблюдательный ум лучших представителей римской культуры заметить в то время то громадное значение, которое предстояло сыграть зарождающейся религии? Были ли у них данные заключить, что именно эти люди через два столетия займут мировой престол, принадлежащий Риму? И, наконец, изучив эту эпоху, – можем ли мы теперь уловить в нашей современной жизни те тонкие струйки, которым предстоит разрастись в широкие реки и затопить нашу культуру? Об этом говорят несколько молодых ученых, сидя весенним вечером на раскопках римского форума.
Разговор, естественно, ведется о внешнем виде старого форума и затем переходит к римской религии.
Римляне были рассудительны и практичны даже в своей религии. Боги их часто были неуклюжими, вульгарными, но всегда здравомыслящими и иногда великодушными. Если сопоставить этот римский Пантеон, состоящий из воинов, чиновников, дев и матерей семейства, с чертовщиной, нарисованной на этрусских могилах, то вы увидите лицом к лицу рассудок и безумие. Римские боги были боги полезные: каждый имел свою функцию. Даже нимфы занимали гражданские и политические должности. И несмотря на все азиатские влияния, это отношение к религии не изменилось у современных итальянцев. То, чего они требовали раньше от языческих богов, теперь они ждут от Мадонны и от святых. Каждый приход имеет своего собственного святого, которого он уполномачивает на представительство, как депутата в парламент. Латинская фантазия сделала из еврейского монотеизма снова многобожие. Женщины сообщают Богоматери о своих влюбленностях. Они думают вполне справедливо, что раз она женщина, то она понимает их, и что с ней можно не стесняться.
Они никогда не боятся быть с ней нескромными, что доказывает их благочестие. Поэтому нам кажется настолько трогательной молитва генуэзской девушки: «Святая Богородица, Вы, которая зачала сына не согрешая, сделайте так, чтобы я могла согрешить не зачиная».
Они были слишком рассудительны, чтобы любить войну ради войны. Это были земледельцы, и войны они вели земледельческие. От побежденных они требовали не денег, но земли. Можно скорее удивляться, как они сумели сохранить свою землю, чем тому, что они ее приобрели.
Платоновский диалог, ступая по этим этапам, подготовляет вступление к рассказу одного из собеседников Николая Ланжелье.
Это рассказ «Галлион». Галлион – родной брат Сенеки – был проконсулом Ахайи. Это был человек образованный и очень начитанный в греческой литературе. Насилие он рассматривает как худшую и непростительнейшую из слабостей. Он был врагом всякой жестокости, если только ее истинный характер не был скрыт от него древностью обычая и общественными взглядами. Призванный управлять Грецией покоренной, лишенной своих сокровищ и славы, он в своем управлении сочетал бдительность опекуна с сыновним благоговением. Он уважал вольности городов и права личности. Жил он в Коринфе в вилле, построенной на западных склонах Акрокоринфа в эпоху Августа. Это был Коринф новый, Коринф римский, построенный на месте старого Коринфа – красавца Ионии, разрушенного войсками Муммия. Ранним утром, сидя на террасе своего дворца над просыпающимся городом, он ведет беседу со своим братом Аннеем Мелой, двумя римскими юношами Лоллием и Луцием Кассием и греком-философом Аполлодором.
Это поколение начала царствования Нерона, которое любило добродетель, но не имело ничего общего со старыми патрициями, которые, не заботясь ни о чем, кроме откармливания своих свиней и исполнения священных обрядов, покорили целый мир. Знать, созданная при Юлии Цезаре и при Августе, быстро сошла со сцены. Теперь это была знать, собравшаяся со всех сторон империи и завладевшая Римом. Для них эпоха Августа представлялась счастливейшими минутами, пережитыми миром, и после кровавой эпохи Тиверия, Калигулы и Клавдия они в молодом Нероне видели зарю золотого века.
«Трудно предвидеть будущее, – говорит Галлион, – однако я не сомневаюсь в бессмертии Рима. Я ожидаю с глубокой радостью, что после усмирения парфян на земле наступит вечный мир. Кто тогда сможет нарушить Римский мир? Наши орлы коснулись пределов мира. Откуда же могут выйти новые варвары?.. Когда люди кончат побеждать друг друга, они станут работать над тем, чтобы победить самих себя. Это будет наиболее благородное применение их мужества и их великодушия. Тогда можно будет жить, потому что при известных обстоятельствах жизнь стоит быть пережитой. Это тонкое пламя между двух бездн мрака».
Между Галлионом и Аполлодором начинается спор о религии, который приводит их к вопросу о гибели богов. Основываясь на тексте Эсхила «Сам Зевс неподвластен Року. Он не может избегнуть того, что суждено», они говорят о том, что царству Юпитера в свое время придет конец, так же как настал конец царства Сатурна.
Аполлодор спрашивает: «Кто же, по твоему мнению, Галлион, примет в свои руки молнию, которая управляет миром?»
«Как, по-видимому, ни смело отвечать на такой вопрос, я думаю, что я смогу дать ответ на этот вопрос», – отвечает Галлион.
В это время его прерывает приход центуриона, который докладывает ему, что его ждут в здании суда для разрешения жалобы коринфских евреев против одного чужеземца из Тарса, проповедовавшего в их синагоге.
«Ты видишь, Галлион, что это дело незначительное и что ты свободно можешь послать для его разрешения кого-нибудь из чиновников».
«Мой долг, – отвечает он, – следовать в этом случае традициям, установленным божественным Августом. Я должен судить не только большие, но и малые дела, особенно в тех случаях, когда право еще не сложилось. Приговор проконсула служит примером и создает закон. Что касается евреев, то я должен никогда не упускать случая следить за этой расой, беспокойной, мстительной и ненавидящей законы. Если когда-либо спокойствие Коринфа будет нарушено, то это случится благодаря им. Они теперь приобрели страшную силу и со всех сторон заражают Италию своим восточным ядом. Нет ни одного греческого города, почти ни одного города варварского, в котором бы на седьмой день не прекращались работы и где бы не воздерживались от принятия в пищу мяса некоторых животных. Факт то, что евреи признают Бога единого, невидимого, всемогущего и творца мира. Но они утверждают, что этот Бог враждебен всему, что не есть еврейство. Что можно думать о Боге, который считает оскорблением себе почести, воздаваемые другим божествам?»
Вернувшись из судилища, Галлион рассказывает друзьям: «Воздух был полон крикливыми голосами и отвратительным козлиным запахом. Я с трудом улавливал слова и только с усилием понял, что один из этих евреев Состен, который называл себя главой синагоги, обвинял в безбожии другого еврея, весьма безобразного, кривоногого, с гноящимися глазами, по имени Савла или Павла из Тарса, по ремеслу обойщика, который последнее время сошелся в Коринфе с некоторыми евреями, выселенными из Рима, для производства холста для палаток и киликийских плащей из овечьей шерсти. Они говорили все разом на скверном греческом языке. Я понял, что Состен обвиняет Павла в том, что тот приходил в то здание, в котором коринфские евреи имеют обыкновение собираться по субботам, и там убеждал их служить их богу как-то иначе, чем требуют их законы. Мне удалось не без труда заставить их замолчать, и я сказал им, что если бы они пришли ко мне жаловаться на какое-нибудь насилие или несправедливость, то я бы выслушал их терпеливо со всем вниманием. Но так как у них дело идет исключительно о словаре и толковании принципов их закона, то это не мое дело, и я не могу быть в этом судьей. И закончил словами: „Решайте свои споры сами и по своему усмотрению“.
Из тех немногих фраз, которые Павел произнес при мне, я мог понять, что он отделился от священников своей нации, отвергает иудейскую религию и поклоняется Орфею, только я не мог запомнить того имени, которым он его называл. А предполагаю я это потому, что он говорил с благоговением о Боге или, скорее, герое, который спускался в ад и поднялся обратно после того, как прошел между бледными тенями умерших. Может быть, это был и Меркурий – Подземный. Но скорее всего я думаю, что он поклоняется Адонису, потому что мне показалось, что он по примеру библосских женщин оплакивал страдания и смерть Бога. Их так много в Азии этих богов-юношей, которые умирают и после воскресают.