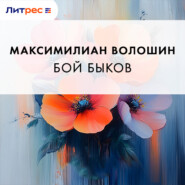По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Леонид Андреев и Феодор Сологуб
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Леонид Андреев и Феодор Сологуб
Максимилиан Александрович Волошин
«Еще несколько лет тому назад «альманахи» были убежищами для – «посвященных», отмеченных знаком «Скорпиона» или «Грифа». На страницах их, как в катакомбах, встречались немногие верные, знавшие друг друга в лицо. Но времена изменились…»
Максимилиан Волошин
Леонид Андреев и Феодор Сологуб
Еще несколько лет тому назад «альманахи» были убежищами для – «посвященных», отмеченных знаком «Скорпиона» или «Грифа».
На страницах их, как в катакомбах, встречались немногие верные, знавшие друг друга в лицо.
Но времена изменились.
Альманахи из катакомб превратились в салоны, в которых, не стесняя друг друга, могут встречаться наиболее несовместимые, наиболее далекие друг другу современники.
Встречи эти бывают невероятны, но это имеет свою прелесть.
Третий альманах «Шиповника» начинается повестью Леонида Андреева и заканчивается романом Феодора Сологуба.
Кто дерзнул бы сопоставить, кто попытался бы провести сравнения между этими писателями, столь несхожими, если бы они не оказались связанными страницами одной книги?
Та часть русской публики, которая любит в Леониде Андрееве его мучительные искания и ценит его как мыслителя по «Жизни Человека» я по «Елеазару», та публика не знает и не понимает ни горького сарказма, ни тонких намеков, ни сложной мифологии, ни классической простоты языка Сологуба.
* * *
Те же (пока еще немногие), кто любят в Сологубе то совершенство языка, которое ставит его прозу новою ступенью в истории русской речи, несравненное искусство построения и его точный прозрачный символизм, те не интересуются искренним, но неглубоким пессимизмом, сильным, но грубым пафосом Леонида Андреева.
Сологуб и Леонид Андреев нисколько не противоречат и не уничтожают друг друга, они не олицетворяют двух каких-либо полюсов в русской литературе, они никак друг другу не соответствуют, они иррациональны.
Быть может, даже если мы сможем отрешиться от всех форм и требований искусства, то мы найдем между ними некое отдаленное сходство, которое сведется к безвыходной муке земного воплощения и к тому осадку горечи и отчаяния, который неизбежно остается в душе, принявшей в себя обманное марево их произведений.
И в то же время сопоставление их на страницах альманаха «Шиповника» производит впечатление антитезы.
Это впечатление, в глубине неверное, возникает потому, что Леонид Андреев является как бы оригинальнейшим мастером в группе беллетристов, взошедших под знаком «Знания», в то время как Сологуб остается совершеннейшим мастером прозы среди декадентов.
Но между группой «Знания» и декадентами тоже нет противоречия, а есть только та иррациональность, что вообще существует между реализмом и символизмом.
Леонид Андреев и Сологуб соединены в одной книге только нумерацией страниц: от 9 до 67 – Андреев, от 189 до 305 – Сологуб.
Не похоже ли это на страницу учебника физики, где мы читаем, что вибрации от 32 до 32768 мы воспринимаем в качестве звука, и те же самые вибрации между 35 трильонами и двумя квадрильонами – в виде света?
Я хочу сказать, что та безвыходность отчаяния, которая одинаково живет в обоих этих писателях, в Леониде Андрееве является нам в виде звука, т. е. крика во «Тьме», а в Сологубе в виде света, озаряющего целую систему темной вселенной.
Искусство их так же несравнимо, как звук и свет, хотя рождено из того же потрясения человеческой души.
Есть разница и в диапазоне этих художников.
В то время как Сологуб захватывает всю семицветную радугу света от ультракрасных до ультрафиолетовых лучей, Леониду Андрееву доступны только высшие ноты напряжения звука.
В распоряжении его нет оркестра звуков – он не знает ни ласкового шепота, ни тихих мелодий песни, потому что голос его надорван от крика.
Этот хриплый и прерывающийся крик надрывает сердце своим отчаяньем. В этом, а не в искусстве письма тайна того впечатления, которое производит Андреев.
Художник прежде всего музыкант.
Художник познает законы жизни, т. е. гармонию ее, независимо от его личного приятия или неприятия мира.
У Сологуба, например, познание музыкальной гармонии мира доведено до высших ступеней, но мира он не принимает и жаждет сладкого небытия, мед смерти предпочитает желчи жизни.
С этой точки зрения Андреев совсем не художник. Он не ищет тех внутренних законов, по которым строится жизнь и по которым вырастает Дух.
Собственное свое слепое чувство, не сознавая и не претворяя его, он переносит в мир объективный, украшая обилием реалистических подробностей, цель которых – заставить поверить читателя, убедить в том, что все так и есть.
В живописи такой прием называется «trompe l'oeil»[1 - Изображение, создающее иллюзию реальности; обманчивая внешность (франц.).], и художники порицают его.
Фигуры на гробницах Медичей нечеловечны, но они созданы по тем же законам, по которым Бог творил человека, и потому живут.
Если же художник, который не знает законов рисунка, которые для живописи есть то же, что законы жизни для поэта, стремится ошибки свои загладить стереоскопическою выпуклостью фигур, он совершает художественный обман.
В одном из первых рассказов Андреева была деталь, очень запомнившаяся всем читавшим его тогда: у господина, внезапно умершего за картами, на подошве сапога прилипла бумажка от карамельки. В этой случайной подробности как бы сосредоточивался весь ужас смерти, и она потрясала своей рельефностью, как большой блик, удачно поставленный портретистом в зрачке глаза.
Прием этот типичен для манеры письма Леонида Андреева и вполне соответствует тому, что называется «trompe l'oeil».
Его мы встречаем у него теперь на каждом шагу. Тот же trompe l'oeil, когда он в «Тьме» говорит о «волосатых грязных ногах с испорченными, кривыми пальцами» и «мозоли на левом мизинце» у террориста, которого пришли арестовывать.
Его страдание и его человеческое чувство остаются с ним, но всю свою художественную наблюдательность, которая очень велика у него, он употребляет не на постижение законов, а на собиранье импрессионистических подробностей.
Он злоупотребляет ими, совершенно не зная чувства меры, и каждая картина его пестрит нестерпимо тысячами ярких бликов.
Это происходит оттого, что у Леонида Андреева нет живых людей, а есть манекены, которых он заставляет разыгрывать драму своей собственной души, но при этом старается их украсить всеми качествами реальности, сделать их преувеличенно четкими и выпуклыми.
Как пример обратного творчества можно привести Бальзака, который, взяв определенный характер, ставил его в известный круг обстоятельств и с холодным вниманием ученого, наблюдающего химическую реакцию, отмечал все движения души и действия своего героя.
Тот же метод, но бессознательнее и гениальнее был у Достоевского.
Поэтому нет ничего ошибочнее, как сопоставление Леонида Андреева с Достоевским, которое так невольно напрашивается.
Поскольку Леонид Андреев проявляется в своих произведениях как личность, он сам мог бы быть одним из героев Достоевского, но как художник он идет путем обратным.
Не менее ошибаются и те, которые считают Андреева символистом.
Быть символистом значит в обыденном явлении жизни провидеть вечное, провидеть одно из проявлений музыкальной гармонии мира.
«Все преходящее есть только символ» – поет хор духов в «Фаусте».
Символ всегда переход от частного к общему.
Поэтому символизм неизбежно зиждется на реализме и не может существовать без опоры на него.
Максимилиан Александрович Волошин
«Еще несколько лет тому назад «альманахи» были убежищами для – «посвященных», отмеченных знаком «Скорпиона» или «Грифа». На страницах их, как в катакомбах, встречались немногие верные, знавшие друг друга в лицо. Но времена изменились…»
Максимилиан Волошин
Леонид Андреев и Феодор Сологуб
Еще несколько лет тому назад «альманахи» были убежищами для – «посвященных», отмеченных знаком «Скорпиона» или «Грифа».
На страницах их, как в катакомбах, встречались немногие верные, знавшие друг друга в лицо.
Но времена изменились.
Альманахи из катакомб превратились в салоны, в которых, не стесняя друг друга, могут встречаться наиболее несовместимые, наиболее далекие друг другу современники.
Встречи эти бывают невероятны, но это имеет свою прелесть.
Третий альманах «Шиповника» начинается повестью Леонида Андреева и заканчивается романом Феодора Сологуба.
Кто дерзнул бы сопоставить, кто попытался бы провести сравнения между этими писателями, столь несхожими, если бы они не оказались связанными страницами одной книги?
Та часть русской публики, которая любит в Леониде Андрееве его мучительные искания и ценит его как мыслителя по «Жизни Человека» я по «Елеазару», та публика не знает и не понимает ни горького сарказма, ни тонких намеков, ни сложной мифологии, ни классической простоты языка Сологуба.
* * *
Те же (пока еще немногие), кто любят в Сологубе то совершенство языка, которое ставит его прозу новою ступенью в истории русской речи, несравненное искусство построения и его точный прозрачный символизм, те не интересуются искренним, но неглубоким пессимизмом, сильным, но грубым пафосом Леонида Андреева.
Сологуб и Леонид Андреев нисколько не противоречат и не уничтожают друг друга, они не олицетворяют двух каких-либо полюсов в русской литературе, они никак друг другу не соответствуют, они иррациональны.
Быть может, даже если мы сможем отрешиться от всех форм и требований искусства, то мы найдем между ними некое отдаленное сходство, которое сведется к безвыходной муке земного воплощения и к тому осадку горечи и отчаяния, который неизбежно остается в душе, принявшей в себя обманное марево их произведений.
И в то же время сопоставление их на страницах альманаха «Шиповника» производит впечатление антитезы.
Это впечатление, в глубине неверное, возникает потому, что Леонид Андреев является как бы оригинальнейшим мастером в группе беллетристов, взошедших под знаком «Знания», в то время как Сологуб остается совершеннейшим мастером прозы среди декадентов.
Но между группой «Знания» и декадентами тоже нет противоречия, а есть только та иррациональность, что вообще существует между реализмом и символизмом.
Леонид Андреев и Сологуб соединены в одной книге только нумерацией страниц: от 9 до 67 – Андреев, от 189 до 305 – Сологуб.
Не похоже ли это на страницу учебника физики, где мы читаем, что вибрации от 32 до 32768 мы воспринимаем в качестве звука, и те же самые вибрации между 35 трильонами и двумя квадрильонами – в виде света?
Я хочу сказать, что та безвыходность отчаяния, которая одинаково живет в обоих этих писателях, в Леониде Андрееве является нам в виде звука, т. е. крика во «Тьме», а в Сологубе в виде света, озаряющего целую систему темной вселенной.
Искусство их так же несравнимо, как звук и свет, хотя рождено из того же потрясения человеческой души.
Есть разница и в диапазоне этих художников.
В то время как Сологуб захватывает всю семицветную радугу света от ультракрасных до ультрафиолетовых лучей, Леониду Андрееву доступны только высшие ноты напряжения звука.
В распоряжении его нет оркестра звуков – он не знает ни ласкового шепота, ни тихих мелодий песни, потому что голос его надорван от крика.
Этот хриплый и прерывающийся крик надрывает сердце своим отчаяньем. В этом, а не в искусстве письма тайна того впечатления, которое производит Андреев.
Художник прежде всего музыкант.
Художник познает законы жизни, т. е. гармонию ее, независимо от его личного приятия или неприятия мира.
У Сологуба, например, познание музыкальной гармонии мира доведено до высших ступеней, но мира он не принимает и жаждет сладкого небытия, мед смерти предпочитает желчи жизни.
С этой точки зрения Андреев совсем не художник. Он не ищет тех внутренних законов, по которым строится жизнь и по которым вырастает Дух.
Собственное свое слепое чувство, не сознавая и не претворяя его, он переносит в мир объективный, украшая обилием реалистических подробностей, цель которых – заставить поверить читателя, убедить в том, что все так и есть.
В живописи такой прием называется «trompe l'oeil»[1 - Изображение, создающее иллюзию реальности; обманчивая внешность (франц.).], и художники порицают его.
Фигуры на гробницах Медичей нечеловечны, но они созданы по тем же законам, по которым Бог творил человека, и потому живут.
Если же художник, который не знает законов рисунка, которые для живописи есть то же, что законы жизни для поэта, стремится ошибки свои загладить стереоскопическою выпуклостью фигур, он совершает художественный обман.
В одном из первых рассказов Андреева была деталь, очень запомнившаяся всем читавшим его тогда: у господина, внезапно умершего за картами, на подошве сапога прилипла бумажка от карамельки. В этой случайной подробности как бы сосредоточивался весь ужас смерти, и она потрясала своей рельефностью, как большой блик, удачно поставленный портретистом в зрачке глаза.
Прием этот типичен для манеры письма Леонида Андреева и вполне соответствует тому, что называется «trompe l'oeil».
Его мы встречаем у него теперь на каждом шагу. Тот же trompe l'oeil, когда он в «Тьме» говорит о «волосатых грязных ногах с испорченными, кривыми пальцами» и «мозоли на левом мизинце» у террориста, которого пришли арестовывать.
Его страдание и его человеческое чувство остаются с ним, но всю свою художественную наблюдательность, которая очень велика у него, он употребляет не на постижение законов, а на собиранье импрессионистических подробностей.
Он злоупотребляет ими, совершенно не зная чувства меры, и каждая картина его пестрит нестерпимо тысячами ярких бликов.
Это происходит оттого, что у Леонида Андреева нет живых людей, а есть манекены, которых он заставляет разыгрывать драму своей собственной души, но при этом старается их украсить всеми качествами реальности, сделать их преувеличенно четкими и выпуклыми.
Как пример обратного творчества можно привести Бальзака, который, взяв определенный характер, ставил его в известный круг обстоятельств и с холодным вниманием ученого, наблюдающего химическую реакцию, отмечал все движения души и действия своего героя.
Тот же метод, но бессознательнее и гениальнее был у Достоевского.
Поэтому нет ничего ошибочнее, как сопоставление Леонида Андреева с Достоевским, которое так невольно напрашивается.
Поскольку Леонид Андреев проявляется в своих произведениях как личность, он сам мог бы быть одним из героев Достоевского, но как художник он идет путем обратным.
Не менее ошибаются и те, которые считают Андреева символистом.
Быть символистом значит в обыденном явлении жизни провидеть вечное, провидеть одно из проявлений музыкальной гармонии мира.
«Все преходящее есть только символ» – поет хор духов в «Фаусте».
Символ всегда переход от частного к общему.
Поэтому символизм неизбежно зиждется на реализме и не может существовать без опоры на него.