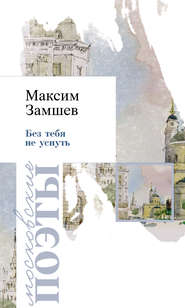По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Концертмейстер
Автор
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Чудесный, заботливый сын! Что бы он делал все эти годы, если бы Арсений не перебрался с ним в Питер! Арсений многим пожертвовал ради него. А что совершил он? Чем отплатил? Достаточно ли этого?
Да уж. Такие размышления не для третьего дня после инфаркта. Последнее, что он помнил из той жизни, которую болезнь, очевидно, теперь разделит надвое, – это по-зимнему приземистый вид на Москву с небольшого холма, на котором располагалось несколько архитектурно-игривое здание ЦК партии. Он оглядывал крыши, стены, перспективы, видел начало улицы Степана Разина. Там, чуть дальше, район, где снимал комнату в юности. До женитьбы.
Думал: надо как-то успокоиться, привести в порядок мысли, разработать хоть какой-то план. Но не пришлось. Что-то неподъёмное возникло в груди и потащило с неодолимой силой в надвигающуюся гулкую темноту.
Принимал его на Старой площади чиновник из сектора культуры ЦК по фамилии Чижиков. Важный, полный, почти без шеи, с крылатым подбородком, с безвольными, как будто с трудом удерживающимися на лице губами. Разговор получился с недомолвками, не конкретный, но к чему-то неуловимо обязывающий Олега Александровича, при этом каждое слово Чижикова было липким, как растаявшая карамелька. Чижиков сперва долго разглагольствовал о значимости апрельского пленума ЦК партии, о том, что советская культура должна чутко ответить на новые вызовы и что литературная наука не может остаться в стороне от всего этого. Олег Храповицкий изображал, что внимательно слушает. Он давно уже не доверял энтузиазму верхов по поводу обновления общества. Ему хватило восторгов от хрущёвской оттепели, которая кончилась не пойми чем. Как объяснить этому человеку, что литературная наука не откликается на вызовы, она изучает то, что уже есть и непреложно. И никак иначе. Неужели в ЦК собрались такие дилетанты? Подобные спонтанно возникающие вопросы он уже много лет давил в себе, считая бессмысленными, а какой-либо протест против системы ненужным и опасным. Впрочем, большой пользы он не видел и в прилежном встраивании в предлагаемые властью координаты. Однажды он, искренне поверив, что Сахаров и Солженицын – враги, с энтузиазмом поддержал официальную точку зрения. И чем это кончилось? Если не в состоянии контролировать последствия своих действий, лучше вообще никуда не лезть.
«Не для этого же он меня вызывал? Не для того, чтобы в верности линии партии убеждать? Тут кроется что-то ещё», – опасался Олег Александрович. Когда монолог Чижикова достиг кульминации, Храповицкий удивился: голос номенклатурщика вдруг зазвучал неестественно, будто из капсулы. Но это ощущение быстро прошло, и он не придал этому значения. Только ослабил начавший сдавливать шею галстук.
Наконец Чижиков перешёл к самому главному. По мнению ЦК, директор ИРЛИ Андрей Иезуитов трактует советское литературоведение слишком догматично. Уже поступило достаточно много сигналов от сотрудников, вскрывающих случаи подавления Иезуитовым прогрессивных тенденций. Похоже, товарищ директор попросту не желает перестраиваться.
Олегу Храповицкому потребовалось время, чтобы осознать услышанное. Что за бред! Иезуитов – кабинетный учёный, интеллигент. Что он там может давить? И какие ещё сигналы? Кому это нужно? Но ЦК партии – слишком серьёзное место для сомнений частного лица.
– Что вы об этом думаете? – Чижиков неожиданно придал своему тону благорасположение, словно не призывал к ответу, а советовался.
Храповицкий разнервничался. Что он об этом думает? Ничего не думает. О чём думать? Какие-то чудеса! Сигналы. Что от него-то надо?
Видя замешательство собеседника, Чижиков продолжил:
– В скором времени в одной из ленинградских газет может появиться письмо сотрудников института о необходимости, скажем так, «свежего ветра» в руководстве ИРЛИ.
При слове «письмо» Олег Александрович похолодел. Призрак ужасного 1973 года вылез из-за спины Чижикова, поднялся к потолку и оттуда, мерзко кривляясь, делал учёному пугающие знаки. Он с трудом выдавил из себя:
– Всё, что вы говорите, для меня, честно говоря, в новинку. Мне надо всё это проанализировать.
– Что ж вы, заместитель директора, а не видите того, что происходит у вас под носом? Поздно уже анализировать. Надо действовать.
– Я больше занимаюсь научной частью. На политику времени не хватает. – Он знал, что это была заведомая глупость, но больше ничего в голову не шло. Не молчать же!
– Плохо, очень плохо. Без политики у нас никуда. Политическая близорукость при вашей должности непозволительна. Не забывайте об этом. – Чижиков что-то быстро записал красивой импортной ручкой на листе, который лежал перед ним. – Ну что же. Раз, как вы сами говорите, вам нужно время, чтобы всё проанализировать, – мы вам это время дадим. Но учтите: его не так много. Вот вам мой прямой телефон. Звоните в любое время, если возникнут соображения.
Чижиков дал понять, что разговор окончен.
Некоторое время после того, как вышел из кабинета Чижикова, Храповицкий совершал все действия автоматически, не вдумываясь. Спустился в бесшумно двигающемся лифте, надел тяжёлую куртку, замотал горло мохеровым шарфом, пристроил на голове почему-то показавшуюся тесноватой шапку-ушанку, проверил, с ним ли его очки для чтения.
«Мне надо всё это проанализировать». Какая глупость! Чего уж тут анализировать! Всё ясно до кристальной жути. В ЦК решили убрать Иезуитова и ищут для этого руки. Этими руками будет предложено стать ему. Андрей Николаевич! Добрейший, тонкий человек. Только два года, как назначен директором. До этого являлся замом. Именно на его место и пришёл Храповицкий. Иезуитов явно симпатизировал ему, ценил как исследователя.
Что делать? Куда себя деть? Его обратный поезд только вечером. Надо было выгулять, выходить, вытоптать из себя вялость, нерешительность и страх. Как, интересно, теперь выглядит дом, где он снимал квартиру в аспирантские годы?
Вспомнилось, как он в день похорон Сталина торопился в ИМЛИ, наивно полагая, что ему разрешат там поработать, и увидел на другой стороне улицы Светлану, насмешливо разглядывавшую его.
Но инфаркт не дал ему вспомнить всё до конца. Подхватил и увёл в темноту.
Когда он очнулся, то почему-то решил, что всё ещё в кабинете Чижикова. Только спустя минуту память всё вернула.
Кто-то подёргал его за руку. Он открыл глаза. Над ним нависла медсестра. Щеки её пылали румянцем. Запах мороза смешивался с запахом табака.
– Олег Александрович! Вас переводят из реанимации в обычную палату. Как вы себя чувствуете? Надо перелечь на каталочку.
На вид ей было лет тридцать. Из-под шапочки выбивалась рыжая прядь.
– Давайте я вам помогу.
На каталку он переместился без всяких проблем, а вот когда везли по кафельному полу, сердце от частой тряски забило тревогу.
В палате ему что-то вкололи. Это принесло облегчение, и он задремал под неспешные разговоры других выздоравливающих мужчин.
1948–1949
Таня держала любимого под локоть. Шуринька от этого преисполнялся уверенностью, что всё будет как надо. Ему непременно удастся уберечь от неприятностей эту бесценную для него девушку, что бы ни случилось с ним самим, на какие бы острые колья его судьба ни бросила. Их близость, по большей части осторожная, нежная, но при этом до дрожи взаимная, наполняла их существование столь упоительным смыслом, что бытовые тяготы отходили на второй план.
Лапшин так изнурил себя ожиданием ареста, что уже его не боялся. Более того, начал предполагать, что его уничтожение – не первейшая цель органов. Никто не подвергает сомнению их полную власть над всеми людьми в СССР. Никто не в силах противиться им. Но раз они дали ему передышку, не лишили жизни, надо этим пользоваться.
Перестать бояться и сочинять музыку.
Этого они не в силах ему запретить.
Шнеерович нёс в темной авоське несколько бутылок шампанского и чудом где-то добытые в предпраздничной магазинной суете шоколадные конфеты в красной коробке.
Москва новогодне принарядилась окнами. Прихотливые гирлянды с лампочками, поблёскивавшие за заиндевевшими стёклами, не давали ночи воцариться в городе с обычной вальяжностью.
В знакомом переулке было как никогда людно.
Некоторые спешили, другие, наоборот, шли не торопясь, уже под хмельком, похохатывали, оживлённо что-то обсуждая.
Небо не потемнело до конца и нависало над городом плотным серым одеялом. В некоторых местах по небосводу неспешно ползли чуть отличающиеся от него по цвету клубы дыма из теплоцентралей.
С нарастающим шумом мимо Лапшина, Татьяны и Шнееровича пронеслись две «победы».
Из одного окна в доме дореволюционной постройки вылетали разудалые звуки баяна.
Войдя в подъезд, Таня и Шуринька долго отряхивали снег с сапог. Шнеерович наблюдал за этим не без любопытства, однако сам примеру друзей не последовал.
Большая квартира в преддверии Нового года избавлялась от своей коммунальности, превратившись в площадку для общего веселья. Конечно, единого стола не было, все накрывали в своих комнатах, но периодически заглядывали к соседям с просьбами: кому-то надо дать открывалку, кому-то одолжить немного соли, кому-то требовалась ещё табуретка, кто-то просил стаканы, если есть лишние.
Прежде чем дойти до цели, Шнеерович, Лапшин и Татьяна миновали людской затор в коридоре, где гости разных хозяев и хозяек смешались в возбуждённой суете восклицаний, объятий, поцелуев, шептаний на ухо и подсовываний друг другу каких-то свёртков и коробочек.
Когда Татьяна отворила дверь в комнату Людмилы и все увидели, что она пришла не одна, а с Шуринькой, раздались радостные восклицания и крики «Браво!». Лапшина приветствовали как героя, вернувшегося с победой, а не как несчастного язвенника, лишившегося двух третей желудка.
Людочка подскочила к нему первой, крепко обняла, прикоснулась к его волосам, словно проверяя, на месте ли они, потом чуть ущипнула его за щёку:
– С наступающим! Как я рада, что Татьяна тебя всё-таки вытащила. Ты неплохо выглядишь. Почему не приходил раньше? Мы о тебе всё время вспоминали, тревожились за тебя. – Люда говорила так быстро, как говорят те, кто боится, что их о чём-то спросят.
За ней маячил незнакомый Лапшину мужчина, большеглазый усач лет тридцати пяти, с прилизанными волосами, в явно заграничном пиджаке.
– Познакомься, это Франсуа. Мой… – Люда сделала намеренно игривую паузу, – друг… он работает во французском посольстве.
Друг протянул руку, не пожал, а скорее подержался за кисть Лапшина и улыбнулся с безукоризненной иноземной искренностью, холоднее которой только безжалостная улыбка слепого сочувствия на устах палача после только что свершившейся казни.
Да уж. Такие размышления не для третьего дня после инфаркта. Последнее, что он помнил из той жизни, которую болезнь, очевидно, теперь разделит надвое, – это по-зимнему приземистый вид на Москву с небольшого холма, на котором располагалось несколько архитектурно-игривое здание ЦК партии. Он оглядывал крыши, стены, перспективы, видел начало улицы Степана Разина. Там, чуть дальше, район, где снимал комнату в юности. До женитьбы.
Думал: надо как-то успокоиться, привести в порядок мысли, разработать хоть какой-то план. Но не пришлось. Что-то неподъёмное возникло в груди и потащило с неодолимой силой в надвигающуюся гулкую темноту.
Принимал его на Старой площади чиновник из сектора культуры ЦК по фамилии Чижиков. Важный, полный, почти без шеи, с крылатым подбородком, с безвольными, как будто с трудом удерживающимися на лице губами. Разговор получился с недомолвками, не конкретный, но к чему-то неуловимо обязывающий Олега Александровича, при этом каждое слово Чижикова было липким, как растаявшая карамелька. Чижиков сперва долго разглагольствовал о значимости апрельского пленума ЦК партии, о том, что советская культура должна чутко ответить на новые вызовы и что литературная наука не может остаться в стороне от всего этого. Олег Храповицкий изображал, что внимательно слушает. Он давно уже не доверял энтузиазму верхов по поводу обновления общества. Ему хватило восторгов от хрущёвской оттепели, которая кончилась не пойми чем. Как объяснить этому человеку, что литературная наука не откликается на вызовы, она изучает то, что уже есть и непреложно. И никак иначе. Неужели в ЦК собрались такие дилетанты? Подобные спонтанно возникающие вопросы он уже много лет давил в себе, считая бессмысленными, а какой-либо протест против системы ненужным и опасным. Впрочем, большой пользы он не видел и в прилежном встраивании в предлагаемые властью координаты. Однажды он, искренне поверив, что Сахаров и Солженицын – враги, с энтузиазмом поддержал официальную точку зрения. И чем это кончилось? Если не в состоянии контролировать последствия своих действий, лучше вообще никуда не лезть.
«Не для этого же он меня вызывал? Не для того, чтобы в верности линии партии убеждать? Тут кроется что-то ещё», – опасался Олег Александрович. Когда монолог Чижикова достиг кульминации, Храповицкий удивился: голос номенклатурщика вдруг зазвучал неестественно, будто из капсулы. Но это ощущение быстро прошло, и он не придал этому значения. Только ослабил начавший сдавливать шею галстук.
Наконец Чижиков перешёл к самому главному. По мнению ЦК, директор ИРЛИ Андрей Иезуитов трактует советское литературоведение слишком догматично. Уже поступило достаточно много сигналов от сотрудников, вскрывающих случаи подавления Иезуитовым прогрессивных тенденций. Похоже, товарищ директор попросту не желает перестраиваться.
Олегу Храповицкому потребовалось время, чтобы осознать услышанное. Что за бред! Иезуитов – кабинетный учёный, интеллигент. Что он там может давить? И какие ещё сигналы? Кому это нужно? Но ЦК партии – слишком серьёзное место для сомнений частного лица.
– Что вы об этом думаете? – Чижиков неожиданно придал своему тону благорасположение, словно не призывал к ответу, а советовался.
Храповицкий разнервничался. Что он об этом думает? Ничего не думает. О чём думать? Какие-то чудеса! Сигналы. Что от него-то надо?
Видя замешательство собеседника, Чижиков продолжил:
– В скором времени в одной из ленинградских газет может появиться письмо сотрудников института о необходимости, скажем так, «свежего ветра» в руководстве ИРЛИ.
При слове «письмо» Олег Александрович похолодел. Призрак ужасного 1973 года вылез из-за спины Чижикова, поднялся к потолку и оттуда, мерзко кривляясь, делал учёному пугающие знаки. Он с трудом выдавил из себя:
– Всё, что вы говорите, для меня, честно говоря, в новинку. Мне надо всё это проанализировать.
– Что ж вы, заместитель директора, а не видите того, что происходит у вас под носом? Поздно уже анализировать. Надо действовать.
– Я больше занимаюсь научной частью. На политику времени не хватает. – Он знал, что это была заведомая глупость, но больше ничего в голову не шло. Не молчать же!
– Плохо, очень плохо. Без политики у нас никуда. Политическая близорукость при вашей должности непозволительна. Не забывайте об этом. – Чижиков что-то быстро записал красивой импортной ручкой на листе, который лежал перед ним. – Ну что же. Раз, как вы сами говорите, вам нужно время, чтобы всё проанализировать, – мы вам это время дадим. Но учтите: его не так много. Вот вам мой прямой телефон. Звоните в любое время, если возникнут соображения.
Чижиков дал понять, что разговор окончен.
Некоторое время после того, как вышел из кабинета Чижикова, Храповицкий совершал все действия автоматически, не вдумываясь. Спустился в бесшумно двигающемся лифте, надел тяжёлую куртку, замотал горло мохеровым шарфом, пристроил на голове почему-то показавшуюся тесноватой шапку-ушанку, проверил, с ним ли его очки для чтения.
«Мне надо всё это проанализировать». Какая глупость! Чего уж тут анализировать! Всё ясно до кристальной жути. В ЦК решили убрать Иезуитова и ищут для этого руки. Этими руками будет предложено стать ему. Андрей Николаевич! Добрейший, тонкий человек. Только два года, как назначен директором. До этого являлся замом. Именно на его место и пришёл Храповицкий. Иезуитов явно симпатизировал ему, ценил как исследователя.
Что делать? Куда себя деть? Его обратный поезд только вечером. Надо было выгулять, выходить, вытоптать из себя вялость, нерешительность и страх. Как, интересно, теперь выглядит дом, где он снимал квартиру в аспирантские годы?
Вспомнилось, как он в день похорон Сталина торопился в ИМЛИ, наивно полагая, что ему разрешат там поработать, и увидел на другой стороне улицы Светлану, насмешливо разглядывавшую его.
Но инфаркт не дал ему вспомнить всё до конца. Подхватил и увёл в темноту.
Когда он очнулся, то почему-то решил, что всё ещё в кабинете Чижикова. Только спустя минуту память всё вернула.
Кто-то подёргал его за руку. Он открыл глаза. Над ним нависла медсестра. Щеки её пылали румянцем. Запах мороза смешивался с запахом табака.
– Олег Александрович! Вас переводят из реанимации в обычную палату. Как вы себя чувствуете? Надо перелечь на каталочку.
На вид ей было лет тридцать. Из-под шапочки выбивалась рыжая прядь.
– Давайте я вам помогу.
На каталку он переместился без всяких проблем, а вот когда везли по кафельному полу, сердце от частой тряски забило тревогу.
В палате ему что-то вкололи. Это принесло облегчение, и он задремал под неспешные разговоры других выздоравливающих мужчин.
1948–1949
Таня держала любимого под локоть. Шуринька от этого преисполнялся уверенностью, что всё будет как надо. Ему непременно удастся уберечь от неприятностей эту бесценную для него девушку, что бы ни случилось с ним самим, на какие бы острые колья его судьба ни бросила. Их близость, по большей части осторожная, нежная, но при этом до дрожи взаимная, наполняла их существование столь упоительным смыслом, что бытовые тяготы отходили на второй план.
Лапшин так изнурил себя ожиданием ареста, что уже его не боялся. Более того, начал предполагать, что его уничтожение – не первейшая цель органов. Никто не подвергает сомнению их полную власть над всеми людьми в СССР. Никто не в силах противиться им. Но раз они дали ему передышку, не лишили жизни, надо этим пользоваться.
Перестать бояться и сочинять музыку.
Этого они не в силах ему запретить.
Шнеерович нёс в темной авоське несколько бутылок шампанского и чудом где-то добытые в предпраздничной магазинной суете шоколадные конфеты в красной коробке.
Москва новогодне принарядилась окнами. Прихотливые гирлянды с лампочками, поблёскивавшие за заиндевевшими стёклами, не давали ночи воцариться в городе с обычной вальяжностью.
В знакомом переулке было как никогда людно.
Некоторые спешили, другие, наоборот, шли не торопясь, уже под хмельком, похохатывали, оживлённо что-то обсуждая.
Небо не потемнело до конца и нависало над городом плотным серым одеялом. В некоторых местах по небосводу неспешно ползли чуть отличающиеся от него по цвету клубы дыма из теплоцентралей.
С нарастающим шумом мимо Лапшина, Татьяны и Шнееровича пронеслись две «победы».
Из одного окна в доме дореволюционной постройки вылетали разудалые звуки баяна.
Войдя в подъезд, Таня и Шуринька долго отряхивали снег с сапог. Шнеерович наблюдал за этим не без любопытства, однако сам примеру друзей не последовал.
Большая квартира в преддверии Нового года избавлялась от своей коммунальности, превратившись в площадку для общего веселья. Конечно, единого стола не было, все накрывали в своих комнатах, но периодически заглядывали к соседям с просьбами: кому-то надо дать открывалку, кому-то одолжить немного соли, кому-то требовалась ещё табуретка, кто-то просил стаканы, если есть лишние.
Прежде чем дойти до цели, Шнеерович, Лапшин и Татьяна миновали людской затор в коридоре, где гости разных хозяев и хозяек смешались в возбуждённой суете восклицаний, объятий, поцелуев, шептаний на ухо и подсовываний друг другу каких-то свёртков и коробочек.
Когда Татьяна отворила дверь в комнату Людмилы и все увидели, что она пришла не одна, а с Шуринькой, раздались радостные восклицания и крики «Браво!». Лапшина приветствовали как героя, вернувшегося с победой, а не как несчастного язвенника, лишившегося двух третей желудка.
Людочка подскочила к нему первой, крепко обняла, прикоснулась к его волосам, словно проверяя, на месте ли они, потом чуть ущипнула его за щёку:
– С наступающим! Как я рада, что Татьяна тебя всё-таки вытащила. Ты неплохо выглядишь. Почему не приходил раньше? Мы о тебе всё время вспоминали, тревожились за тебя. – Люда говорила так быстро, как говорят те, кто боится, что их о чём-то спросят.
За ней маячил незнакомый Лапшину мужчина, большеглазый усач лет тридцати пяти, с прилизанными волосами, в явно заграничном пиджаке.
– Познакомься, это Франсуа. Мой… – Люда сделала намеренно игривую паузу, – друг… он работает во французском посольстве.
Друг протянул руку, не пожал, а скорее подержался за кисть Лапшина и улыбнулся с безукоризненной иноземной искренностью, холоднее которой только безжалостная улыбка слепого сочувствия на устах палача после только что свершившейся казни.