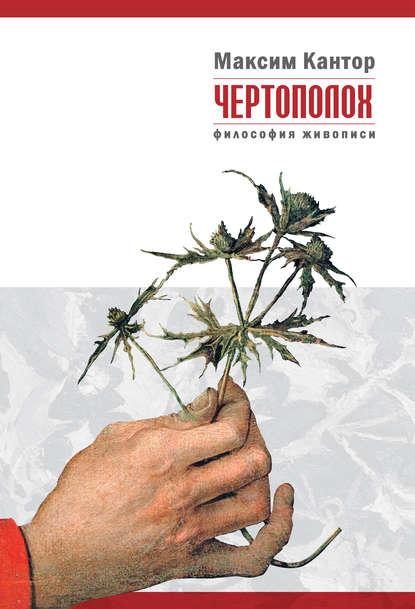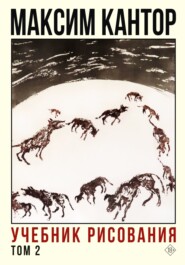По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чертополох. Философия живописи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Волшебная тьма под куполом собора – среда, конденсирующая в себе невидимые глазом скульптуры и фрески, витражи и конструкции – эта среда сама по себе, как субстанция веры, является характеристикой собора – нас охватывает волнение от присутствия великого, хотя мы еще не рассмотрели, что именно нас окружает. Так и материя живописи, которая усложнилась бесконечно, важна сама по себе: текучий цвет, который принимает формы и ускользает от определений – это субстанция мысли.
В картине Рембрандта важны не только выражения лиц блудного сына и его отца; важно (может быть, самое важное) в картине то, как слепой отец усталой рукой трогает плечо сына. Это прикосновение можно передать словом, но в живописи трепет касания сочетается с выражением слепого лица, с густой темнотой, которая заполнила комнату, с лучом света, упавшим на истоптанную пятку блудного сына. Именно связь явлений составляет содержание рассказа. Даже не так; не связь явлений – такое бывает в романе, – но одновременность явлений. Еще точнее: взаимопроникновение явлений. Цвет, которым написано одеяние старика, перетекает в рубище его блудного сына, густея, становится бурой мглой. Это субстанция, которая уже не вполне цвет, но среда, производящая сразу все – и предметы и расстояния между ними. Живопись наглядно демонстрирует нам такое представление об истории, в котором все происходит одновременно и каждый миг влит в вечность.
Выявление героя из истории – вот что показывает нам готический собор, когда нежданно глазу открывается спрятанная в нише скульптура, когда мы обнаруживаем в капелле спрятанное сокровище – картину Мемлинга или Тинторетто; сопоставление личного, персонального и великой среды – это именно то, что Сезанн тщился передать выражением «мое маленькое ощущение». Пространство между бутылками, изображенными Сезанном, важнее, нежели сами предметы. Воздух, обволакивающий Джоконду, объясняет характер самой Джоконды.
Как определить тьму Рембрандта, красочное месиво Ван Гога, кирпичную кладку мазков Сезанна, сухость черт героев Мантеньи, спиралью скрученные тела Эль Греко, напряжение, исходящее от полотен Гойи? Разве эти вещи связаны с категорией прекрасного?
Перечисленное – и есть содержание картин мастеров, это не побочный эффект, но то, ради чего картины написаны. Густая среда, напряжение и сухость черт, эти явления не могут проходить по разряду «прекрасного». Элементы, свойства, особенности бытия – прекрасны не сами по себе, но становятся прекрасными в нашем сознании, соотносящем эти свойства с нравственным началом. Тьма не может быть красива – а три четверти картин Рембрандта просто погружены во мрак; но прекрасно преодоление тьмы, которое совершает герой Рембрандта. Невозможно сказать, красиво ли напряжение; но без отчаянного напряжения всего существа нет сопротивления злу. Сухость черт – всего-навсего особенность анатомии, но вкупе с высказыванием всей картины, важно, что идея исходит от худого, а не от толстого человека.
Смысл живописи именно в сопротивлении небытию несмотря ни на что. Как Гойя передает напряжение, как Рембрандт создает свою золотую тьму – неизвестно; нет метода описания гармоничного процесса создания напряжения – это невозможно, закон гармонии здесь ни при чем. Художником подобные вещи осознаются лишь в процессе воплощения. Иными словами, идея работы возникает не до того, как картина нарисована, а как бы одновременно, в связи с самим процессом письма. Да, художник делает наброски – но они встроены в общий процесс, а совсем не являются руководством к созданию картины. Если бы художник мог сформулировать свою картину до написания, то и рисовать бы не стоило. В том и особенность живописи, что конечный результат есть сумма многих слагаемых, часть которых неизвестна. Показателен метод Леонардо, который буквально достраивает свою картину из проекта, растущего прямо на глазах у зрителя; мы словно наблюдаем возникновение образа из густой среды сфумато; образ выплывает из тумана.
Определяя красочную стихию живописи, испытываешь искушение – назвать ее дионисийской, спонтанной. Описывая яркую красочную поверхность, критики часто прибегают к выражению «стихийный восторг перед бытием». Особенно часто эти слова произносят перед лицом полотен Ван Гога, фовистов или импрессионистов. Живописец, создающий карнацию полотна, то есть сплав красок, живое подвижное тело картины, – руководствуется ли он разумом? Рука опытного живописца движется как бы по своей собственной воле, и часто разум не успевает осознать то, что глаз счел истинным; хорошо зная свою палитру (Делакруа, например, палитру воспринимал как действующее лицо процесса живописи), живописец фактически передоверяет руке все то, что, стоя в отдалении от холста, он мог бы выразить словами. Не разум – в этот момент художником движет воля, порыв; подсознательное знание – такое тоже возможно. Сравнение этого живописного всплеска со спонтанным дионисийским началом в музыке – оправданно. В некий момент стихийное начало живописи переходит под контроль замысла: художник знает, как придать произведению завершенный вид.
Уместно вспомнить спор Боттичелли с Леонардо. Боттичелли пренебрежительно заметил, что создание пейзажа не требует мастерства, достаточно пропитать краской губку и швырнуть губку в стену – в потеках краски на стене всякий увидит пейзаж, сообразно личным пристрастиям. Леонардо, комментируя слова Боттичелли, сказал, что для того чтобы придать смысл узорам, которые появятся в случайном пятне, – надо владеть мастерством: спонтанное пятно нуждается в шлифовке формы.
Говоря о великих художниках, мы исключаем соображения приема: мастерство – это не прием. Замысел содержался в красочной стихии, умная рука его находит. И соблазнительно определить процесс ницшеанской парой «дионисийское – аполлоновское».
Трагедией, по Ницше, является столкновение аполлоновского с дионисийским, разумного с хаотичным, или, если угодно, идеи индивида – с толпой. Именно в иерархичности сюжета, в преодолении хаоса и в сопряжении с хаосом Ницше усматривал трагедийность бытия.
Ницше был имморалистом и эгоистом, он презирал толпу и почитал иерархию – об этом писал сам и часто. (См. «Воля к власти», № 374: «Для художников карикатурой является «добропорядочный» человек и bourgeois, для набожных – безбожный, для аристократов – человек из народа. Среди имморалистов эту роль играет моралист; для меня, например, карикатурой является Платон».) Однако, отрицая мораль и стадо, Ницше не вовсе отрицал мораль и не до конца отрицал стадное начало. Мораль он ненавидел за то, что та придана субъекту извне, а не рождена им самим, а следовательно, ограничивает природную волю. Стадо же – это «ненависть средних к исключительным», инстинкт стада на стороне уравнителей, коим Ницше считал Христа. И уравнительную мораль, и стадность Ницше готов был оставить, и даже соглашался на присутствие в истории морали – но лишь для существ низшего уровня, для стада, как организационный принцип. Новая аристократия духа должна, по его мысли, стоять над управляемым моралью стадом и над моралью – и находится в чертогах счастья. Целью развития Ницше полагал именно счастье (а не благо, как, скажем, Платон, который был для него карикатурой). Исходя из этой конструкции, трагедией для Ницше было становление индивидуальности высшего порядка, не отвергающей хаос и стадность, но как бы становящейся на плечи этого хаоса, возглавляющей стадо. Эта, достаточно популярная в XX веке, да и сейчас, посылка, в корне противоположна идее ренессансной живописи.
Соединение аполлоновского рассудочного и дионисийского необузданного, явленное в музыкальной гармонии, Ницше называл основой трагедии. Так не следует ли сходным образом отнестись к живописной субстанции?
Сказать так затруднительно потому, что глаз не может отделить дионисийское от аполлоновского – глаз восторгается сразу конечным продуктом; образ неделим. Наш взгляд на мир и непосредственен, и искушен в то же самое время: мы знаем, что олива – зеленого цвета, а небо Неаполя – голубое; но мы не знаем заранее, как зелень сочетается с голубизной. На этом, всякий раз обновляемом знании, импрессионисты построили свою эстетику, феномен первооткрывания мира единым взглядом есть вообще одно из чудес существования. Взгляд вбирает в наше сознание улыбку Богоматери; пространство, распахнутое Брейгелем; щедрый мазок Ван Гога. Мы отличаем на взгляд хорошее от дурного, хотя затруднились бы объяснить почему.
То, что ищет живописец на палитре, есть не что иное, как связующая прочие элементы материя, ускользающая субстанция – философ бы сказал: логика, теософ бы сказал: Бог.
Такого инструмента, как палитра, ни иконопись, ни декоративно-орнаментальное, ни монументальное искусство просто не знают. Для вышеперечисленных видов творчества – палитра пригодиться не может: смешивать цвета не требуется. Палитра, хотя это и покажется странным, есть инструмент для химических опытов. Живописец смешивает земли и минералы, из которых, в основном, и состоят краски. Палитра существует затем, чтобы в результате этой работы, как следствие опытов и сравнений, получить еще неизвестный цвет, никогда прежде не виданный. Так действовал алхимик, смешивая разные элементы, представленные в мироздании, чтобы получить философский камень. Творческий метод Сезанна или Рембрандта – это буквальная алхимия. Иными словами, живопись – наиболее чувственное, материальное, телесное из искусств – основана на сугубо рассудочном, рациональном начале. Мы имеем дело с тем уровнем рационального знания (ср. аполлоновское начало, как его определил бы Ницше), которое само создает свои стихии – отнюдь не вступает во взаимодействие с внешним дионисийским началом, но производит дионисийское само. Дионисийское и аполлоновское – живописец смешивает сразу же – на палитре.
Визуальный образ сплавляет спонтанное и рациональное нерасторжимо, точно так же, как наше сознание принимает проживаемый нами легкий миг вплавленным в вечность. Образ – это не равновесие стихийного и разумного, это не последовательность событий, это постоянное прорастание вечности из секунды.
2
Живопись масляными красками и сопутствующая ей этика поведения появилась во время Ренессанса и просуществовала недолго, всего около пятисот лет. Это сугубо европейский, точнее, западноевропейский феномен, с твердо очерченными временными и географическими границами.
Ренессансный проект полнее всего выразил себя через визуальные искусства, и более всего именно через живопись. Религиозная живопись Проторенессанса и живопись Флоренции XV века, несомненно, находятся в прямом родстве. Многое из иконописи перекочевало в светскую масляную картину; Сиенская школа, аккумулирующая иконописный канон в картину станковую – конечно же, свидетельствует о непрерывной традиции. В данном рассуждении важно обозначить качество, которое отличает Леонардо и Боттичелли от Симоне Мартини или Липпо Мемми, и, тем более, от Джотто. В живописи после XV века, в живописи масляными красками можно разглядеть – нет, не агностицизм, но желание рассуждать самостоятельно о божественных предметах.
У Жоржа Дибо есть фраза в «Соборах» (сказано им по поводу Симоне Мартини и мастеров сиенской школы, которые, по Дибо, создали стиль, синтезирующий римский портрет и рыцарский куртуазный дискурс): «Они еще не говорили об отрицании Бога, но предлагали посмотреть Ему прямо в лицо». Речь идет о личном достоинстве изображенного героя (у Дибо такой формулировки нет, но подразумевает он именно это качество). Речь идет о нарисованном святом, который обрел личную, присущую только ему манеру держаться. Прямой взгляд Адама с фрески Микеланджело, направленный в глаза Саваофу, надо было выработать; в иконе такой взгляд – от равного к равному – невозможен. То есть, требовалось воспитать поведение человека, изображенного на картине. Смертный образ отвоевывал независимое пространство в картине и обучался двигаться самостоятельно. Жестикуляция героев Мемми, Мартини и Лоренцетти становится чуть более гибкой, следуя французскому куртуазному влиянию, причем часто влияние поэзии или светского этикета опережает пластику живописи – но фиксируется именно в живописи. В той же мере, в какой тройной аркбутан готического собора родственен терцине, тройной рифмовке Данте; существуют связи сиенской пластики с готическими сводами и пропорциями нефов. Провансальская поэзия – Бернарт де Вентадорн – тонкие пальцы святых Липпо Мемми – грандиозная стройка в Авиньоне, затеянная Климентом VI и собравшая итальянских мастеров: синтез масляной живописи ткется исподволь, но ткется неуклонно.
Неаполитанский двор, где правили французские принцы; дворцы просвещенных тиранов Северной Италии (Феррара, Милан, Мантуя), при которых работали интернациональные живописцы – они объединяли пространственные усилия Италии с готической скульптурой исподволь – чтобы впоследствии поместить готическую скульптуру в обрамлении живописных образов. Так поступал Микеланджело, создавший архитектурную конструкцию на плоском потолке Сикстинской капеллы, прежде чем расписать потолок героями; так поступал Рогир ван дер Вейден, помещавший своих героев под тимпаном готического собора, испещренного барельефными сценами («Явление Христа Марии», 1430, Метрополитен-музей). Из этих контрастов – монохромной готической скульптуры и теплого образа – виден путь развития живописи: от соборной скульптуры, синтезированной с иконописью треченто, к автономному образу. В этом отношении показателен триптих «Искупление» того же Рогира (1455–1459, Прадо), в котором изображенный тимпан собора сочетает – невероятно! – готическую каменную скульптуру и цветные иконы треченто.
Масляная живопись по отношению к темперной; станковая картина по отношению к иконе – явились тем же, чем явился протестантизм по отношению к Собору и Папе. Протестантизм (то есть, заново прочитанный Завет, переведенный с латыни на язык общины) заключается уже в самом феномене автономного, вышедшего из иконы образа. Собственно, масляная живопись выполнила роль национального языка – по отношению к латыни-темпере. Слово «протестантизм» в разговоре об очевидно католических художниках не должно смущать: речь идет, разумеется, не о конфессии, но об интенции к личному пониманию Завета, к чтению текстов без посредника. Евангелическая церковь в первые десятилетия своего существования была исключительно обаятельна для гуманистов. Разве всякий гуманист, пересказывающий Завет применительно к современной ему истории, не переводит Евангелие на свой диалект? Так, Франсуа Рабле предлагал свою Телемскую обитель, выстроенную под надзором католика брата Жана и католика Гаргантюа – для евангелистов. На воротах обители написано среди прочего так: «Входите к нам вы, кем завет Христов от лжи веков очищен был впервые». Это адресовано непосредственно евангелистам, разумеется, но и шире: всякому мастеру, отваживающемуся рассуждать о вещах предельных – самостоятельно.
Жестокость Лютера, нетерпимость кальвинизма – это еще предстояло оценить; но личное прочтение художником Библии, собственная трактовка Завета (так, как явлено у Рабле или у Леонардо), это сближало пафос ренессансного мастера с евангелической проповедью. Высвободившийся из иконописного канона человеческий образ – а это произошло одновременно с изобретением книгопечатания и поновлением Завета – стали писать новыми красками; поверхность, предназначенная для живописи, изменилась; поведение художника стало иным. Возникновение автономного живописного образа стало событием беспримерным в истории Европы. Усилие, которое однажды совершила европейская культура, противопоставив хрупкий образ иконы – монументальному искусству язычества, было велико. Но еще более великим усилием стало создание смертного образа частного человека – поставленного вровень с монументом власти и символом веры. Это не образ Бога неумирающего и неподвластного тлену. Это образ человека, уязвленного своей неизбежной кончиной, подверженного и болезням и страхам и, тем не менее – вопреки собственной бренности – дерзающего стоять на ветру истории в полный рост. Образ смертного входил в картину постепенно: донаторы пристраивались с краю композиции, располагались близ святых, у подножия трона Мадонны; горожане, современники художника, терялись среди волхвов у входа в пещеру; но постепенно смертный человек отважился заявить о себе громко, его изображение обособилось в портрет, сравнялось репрезентативностью с образом святого. Конечно, в явлении себя как исторического персонажа много тщеславия и самонадеянности. Но сколько отваги! Сколько отчаянной веры в то, что судьбу можно превозмочь! Сколько сил, истраченных на противостояние времени! Ничто не могло дать человеку этих сил – даже молитва; слишком имперсонально воззвание к Богу живому от смертного, тающего в безжалостной реке времени. Но вот появился портрет одного, отдельного, не похожего ни на кого; и смертный человек получил возможность отстоять свои черты перед вечностью. Таким храбрым сделало человека пластическое искусство XV века. Можно называть это новое искусство – живописью, но речь о большем: живопись масляными красками стала предельным выражением личной автономии европейца. Масляная живопись есть материальное воплощение свободы отдельно стоящего человека.
Автономный образ связан, прежде всего, с переживанием уникальности и конечности собственного бытия. Изображение человека живет дольше самого субъекта и, тем самым, соотносит индивидуальный рассказ с религией – в этом великое искушение европейской персоналистской культуры.
Материалы для личного бессмертия выбраны следующие: трепещущий холст вместо неподвижной стены и доски; масляная прозрачная краска вместо кроющей темперы; рама, отсекающая внешнее пространство. Отныне не храмовая, но частная вещь, сделанная одним для одного – приобретает ценность исторического значения. Холст вибрирует и трепещет, как парус на ветру, картина на холсте входит в жизнь европейского гражданина одновременно с морскими путешествиями, с присвоением мира, с открытием далеких земель. Мир (а холст-парус символизирует путешествие Одиссея) отныне может быть присвоен сознанием смертного – и свидетельством этого является картина в жилище частного человека.
В романе Камю «Посторонний» есть пронзительная строка. Исповедуя осужденного перед казнью, священник спрашивает его, как тот представляет себе жизнь вечную. «Такой, чтобы она мне напоминала о жизни земной!» – отчаянно кричит приговоренный к смерти.
И впрямь: как мы представляем себе Рай? Художники Средневековья не могли ответить на этот вопрос; мастера Ренессанса сказали определенно: рай – это то лучшее, самое дорогое, самое осмысленное, самое трепетное – что мы способны почувствовать сейчас: это наша способность любить, наша тяга к знанию.
Картина выполнила эту задачу: обратила в вечность образ земной жизни. Некрасивый (Лоренцо Медичи кисти Боттичелли), толстый (канцлер Ролен кисти Ван Эйка), изуродованный кожной болезнью (старик с внуком кисти Гирландайо), обрюзгший (Фридрих Саксонский кисти Кранаха), изможденный до состояния физического уродства (нюэненский крестьянин кисти Ван Гога) – герой портрета становится бессмертным именно в своей неидеальной ипостаси. Этим качеством не обладают ни фреска, ни икона; а масляная живопись оказалась в том пространственно-временном континууме, где смертное бытие и буквальный тлен (ведь картина на холсте тоже легко может быть разрушена, как и персонаж, на ней изображенный) – объявляют себя бессмертными. Это самонадеянное заявление прозвучало с картин Леонардо – и с этого момента изобразительное искусство приобретает статус философического диалога; этот диалог – персонального образа (картины) с имперсональной историей – длится до сих пор.
Дионисийским началом (если пользоваться метафорой Ницше) здесь выступает космос истории – который по отношению к одной конкретной судьбе становится непонятным как хаос. Организация космоса, в конце концов, непостижима человеческому разуму – в том случае, если бытие отдельного человека не приравнено в значении к космосу. Если человек бесконечно ничтожен и мал, тогда и космос невнятен и хаотичен. Картина – это то, что уравнивает человека в правах с историей. Иными словами, живопись масляными красками, сам процесс создания бренного образа перед лицом небытия – это призыв к очеловечиванию космоса и это трагедия невозможности космос гуманизировать.
3
Красоту дольнего мира и величие мира горнего художник Средневековья рисовать умел; но существует мир внутренний, самый сложный. Микрокосм (человек) был объявлен Ренессансом тождественным макрокосму (вселенной); Леонардо – ярчайший пример въедливого изучения вселенной, заключенной внутри человеческого тела, «Урок анатомии доктора Тульпа» Рембрандта рассказывает о том же. Занятия анатомией показали, что внешний мир не превосходит сложностью мир внутренний; но, помимо знаний о строении внутренних органов, которые можно нарисовать, существует знание интимного мира души. Масляная живопись стала визуальным выражением душевных эманаций.
То, что икона постулировала, масляная живопись показала в противоречивой сложности. Директива (локальный цвет) может быть усложнена рефлексией (лессировкой, когда одним цветом прозрачно покрывают другой цвет), подвергнута сомнению (цвет может раствориться в общем тоне), измениться в процессе сопоставлений (валёрная живопись сделала локальный цвет относительным: удаляясь в пространстве, цвет меняется) и вдруг вернуться из дальнего голубого пространства – неожиданным индивидуальным, ярчайшим цветом. Так умеет Брейгель, выстроив подробно шкалу тональных градаций, вдруг вернуть локальный красный цвет – в самой удаленной перспективе. Не так ли поступает свободный человек: прежде чем принять на веру доктрину, подвергает ее сомнению, усложняет сопоставлением с другими теориями, поверяет опытом, понимает относительность любого знания – и лишь затем постулирует свое субстанциональное бытие, свободное лишь в связи с другой свободой. Это сопоставление свободных воль (ср. контрастная живопись) и понимание общественного единства (ср. перспектива и валёрная живопись) и выражает масляная живопись Ренессанса.
Эразм Роттердамский, буквальный современник рождения масляной живописи, философ Северного Возрождения с его концепцией свободной воли («Диатриба, или Рассуждение о свободной воле») и Лоренцо Валла, философ итальянского Возрождения («Трактат о свободной воле»), есть прямые учителя масляной живописи; в случае Эразма это подчеркивается еще и тем, что именно Эразм инициировал переезд Гольбейна в Англию, изменив на века строй английской эстетики. Мысль Эразма состоит в том, что человеком не рождаются, но становятся путем нравственного, прежде всего – правового, усилия. Общество возникает из совокупности воль свободных людей, причем условием для того, чтобы человек стал субъектом юридической и гражданской ответственности, является исключительно его свободная воля. Никакой манипулятивной деятельности (включая религиозное внушение) в отношении свободной воли Эразм не признавал. Надо ли прояснять тот аспект, что художник Гольбейн потратил всю свою жизнь, рисуя портреты свободных людей – если угодно, творцов общества, – руководствуясь именно этой доктриной. Гольбейн оставил нам и портрет самого Эразма: слегка насмешливое и одновременно исключительно грустное лицо можно считать портретом самой живописи – понятой, как философия. Аугсбургский мастер выполнил портрет Эразма в Базеле, в 1514 году, когда он иллюстрировал «Похвалу глупости», книгу крайне веселую. Впрочем, книга, лежащая перед самим Эразмом на картине, вряд ли памфлет – возможно, это «Оружие христианского воина», та книга, которая напомнит нам о странствующем рыцарстве. Эразм положил руки на книгу тем жестом, каким слепой отец в рембрандтовской картине трогает плечи блудного сына – с трепетом и счастьем, не веря и боясь спугнуть истину.
4
Манифестом масляной живописи, понятой как философия нравственного действия, является картина Джорджоне да Кастельфранко «Три философа», написанная примерно в те же годы, что и портрет Эразма – в 1506–1508 гг. Тогда же Микеланджело создает плафон Сикстинской капеллы. Волшебные совпадения цифр не случайны и не могут быть случайны: южный и северный художники приходят к единому пониманию живописи – как инструмента нравственного становления человека, гуманизации человека. На картине Джорджоне «Три философа» – на фоне прекрасной долины, простертой вплоть до дальнего города, в лесу – изображены три мудреца. То, что эти люди мудры, мы видим сразу: это одна из особенностей зрения – отличать глупость и ум на взгляд; мудрецы не беседуют, точнее сказать, их спор, как у пифагорейцев, происходит в молчании. Скорее всего, их спор касается выбора направления пути – они стоят на распутье. Мы можем счесть их представителями разных конфессий: вот человек в чалме, возможно, мусульманин; вот старик, похожий на пророков Микеланджело, возможно, иудей; и вот христианин – юноша. Впрочем, равно приемлема версия трех наук: астрономии, математики, схоластики. Юноша занят измерениями природы, старик предъявляет карту вселенной, человек среднего возраста сосредоточен на скрытой от нас мысли. Однако можно определить этих троих – как волхвов на дороге в Вифлеем; перед нами не кто иные, как три мудреца, описанные апостолом Матфеем – персидские астрологи, маги и провидцы. Беда Достопочтенный наделил пришедших к Деве мудрецов именами Каспар, Балтазар и Мельхиор, а мудрецы эти (их иногда именуют королями) были астрологами, зороастрийцами. Геродот считал, что маги, поклонившиеся Деве с Младенцем, принадлежат к аристократической касте древней Персии, это исследователи небесных светил. Чалма среднего мужчины, Мельхиора, получает, таким образом, естественное объяснение – одного из волхвов традиционно изображают в тюрбане; нетерпеливый жест старика, предъявляющего карту небосклона, понятен – ему кажется, он знает, как идти. Согласно преданию, в начале первого тысячелетия, во время царствия Ирода, было небесное знамение, определяющее начало новой эры – появилась комета. Астрологи, вычислившие по падающей звезде место, на которое траектория падения указывает, отправившись искать нового Царя Иудейского, дошли до Вифлеема. Один из магов (Каспар, согласно традиции, самый старый) исчисляет путь по заранее составленной карте неба, Мельхиор погружен в себя, а третий, Балтазар, занимается непосредственными расчетами – не доверяя уже написанному, делает вычисления сам – в руках у него циркуль и буссоль, он вычерчивает путь кометы. Астрологи, предрекающие начало новой эпохи – не сопоставляют земной опыт с известным прежде Законом, один лишь юноша Балтазар вглядывается в мир; тот факт, что он физическим обликом похож на Джорджоне и на коленях у него бумага, наводит на мысль о том, что перед нами – рождение живописи. Опытным путем, сплавляя знания в едином действии, как точка схода разных течений философии – возникает масляная живопись. И здесь уже любое предположение будет уместно (например, говорят, что на картине изображены Аверроэс, Аристотель и Вергилий, или перед нами – средневековый схоласт, арабский философ и неоплатоник). Как ни скажи, верно все: перед нами единство разных философских доктрин (вспомним Пико, слившего противоречивые учения воедино), сплавленное в живописи. Живописец не иллюстрирует мысль, он проживает мысль, думает красками. Логос перелит в краски – стал единой материей; но не хватает еще одного усилия. Важно то, что астрологи ищут путь в тот момент, когда они уже дошли до цели путешествия. Сцена происходит непосредственно перед входом в пещеру – то есть, Мария с младенцем находятся в непосредственной близости от мудрецов. Остается сделать усилие – преодолеть слепоту.
Мир духов рядом, дверь не на запоре,
Но сам ты слеп, и все в тебе мертво.
Умойся в утренней заре, как в море,
Очнись, вот этот мир, войди в него, —
говорит Гёте; именно этот шаг, последний, необходимый для познания жизни шаг – осуществляет живопись. Истина рядом – протяни руку.
Единение трех философов в пределах одного полотна позволяет сделать заключение, что возможен союз априорного знания, схоластического рассуждения, веры и страсти к познанию – однажды они будут сплавлены живым образом. Так именно и произошло.
5
Освободившись от локального цвета, живопись ушла далеко от символа и знака, обретя нюансы понимания, необходимые для процесса мышления. Леонардо и Боттичелли, Мантенья и Микеланджело сумели выразить не меньше, нежели Марсилио Фичино или Пико делла Мирандола. Отныне живопись не просто «утверждение истины» (по выражению Флоренского) и не «умозрение в красках» (по определению Трубецкого), это не символическое воззвание; но «размышление с кистью в руке», как много лет спустя сказал Эмиль Бернар о Сезанне. Иными словами, это протяженное действие, поскольку философия – не декларация, но стиль мышления. Нам важен ход рассуждений, существенна логика и поступь проектирования мира. Появились художники, пишущие картины вообще ни для кого, у картин нет цели угодить заказчику – живописцы творят без адреса, единственно для того, чтобы прояснить собственную мысль. Ни на стену особняка, ни в храм, ни в мэрию – картины Ван Гога, Гойи и Рембрандта писались в никуда. Забирающий все силы существа, однако никому не служащий высокий досуг неудобен для социума: живопись неангажированного художника (в отличие от манипулятивной и декоративной деятельности) есть сугубая прихоть одиночки – ради диалога с одним-единственным зрителем; это излишество есть высшее проявление рефлективного сознания Европы. Зачем горожанину иметь картину? Чтобы сравниться в привилегиях с королем и знатью, декорирующими дворцы, чтобы уравнять свое жилье в значительности – с храмом? Но это бессмысленная цель. Люди вступают в диалог с картиной поверх времени, вопреки пространству – ради одного лишь: ради индивидуального права на вечность. Это больше, чем индульгенция (а масляная живопись возникает одновременно с институтом индульгенций): не отпущение грехов, но право на личную историю. Не опосредованное властью и религией участие в истории – но право на соразмерность личного бытия всему миру; это право дала человеку картина, написанная маслом.
Если принять утверждение Эрвина Панофского (см. «Аббат Сюжер и аббатство Сен-Дени», 1957 г.), что готику фактически создал один человек, аббат Сюжер из аббатства Сен-Дени; то следует заключить, что искусством живописи, возникшим из готики, мы обязаны аббату Сюжеру. Это он, невзрачного вида человек крестьянского сословия, сделал так, что пять веков подряд пластический образ человека развивался, становясь в своем значении равным Богу, по чьему образу и подобию человек и создан. Аббат Сюжер (Сугерий, как произносят его имя некоторые) был советником королей и даже регентом Франции во время Второго крестового похода, его влияние на французскую культуру грандиозно. Влияние Сюжера сопоставимо с влиянием Бернара Клервоского, причем последний считался «христианской совестью мира» и распространял свои проповеди на всю Европу. Бернар Клервоский придерживался прямо противоположных Сюжеру взглядов.
В известном смысле процесс развития европейских пластических искусств есть проекция спора двух концепций веры – аббата Сен-Дени Сюжера и цистерцианца Бернара Клервоского.
Аббат Сюжер, маленький и некрасивый, был влюблен в удлиненные пропорции окон и волшебный свет витражей. Его любовь к прекрасному (он полагал, что прекрасное оживляет веру) вдохновила строительство украшенных скульптурами соборов, которые мы называем готическими; современники (в их числе Бернар Клервоский) считали архитектурную и скульптурную избыточность неприемлемой для христианской веры.
Бернар Клервоский происходил из знатного бургундского рода, значительность внешности усугубляла силу его слов; Бернар был вдохновителем Крестовых походов и истребления катаров; он был проповедником империи; и он не принимал того, что отвлекает от истовой веры. Бернар Клервоский не принял не только готику (готика лишь собиралась появиться), он не принимал даже сдержанной скульптуры романских соборов. Цистерцианец осуждал «пестроту образов», конкурирующую со Словом Божьим. Суровый монах отрицал самодостаточный язык символов, так его аббатство лишилось фасада и портала, по выражению одного из исследователей «замкнулось в себе». Со стен цистерцианского аббатства ушел не только раздражавший Бернара бестиарий, но исчезли образы, которые монах считал «внешним, отвлекающим от внутреннего». Прямых столкновений с Сюжером цистерцианец избегал; ссора влиятельных деятелей церкви не способствовала бы укреплению веры – это понимали оба, от конфликта уклонились. Но противостояние существовало: аббат Сюжер внедрял готику, а Бернар Клервоский усердно изгонял готику. Вера Бернара Клервоского отгородилась от визуального образного мира.
Любопытно уподобление Бернара Клервоского – Платону, к которому настойчиво прибегает Панофский: «Он, подобно Платону, изгонял искусство из своего мира (с той лишь разницей, что Платон делал это «с сожалением»), потому что оно относилось к той «неправильной» области мира, в которой он видел лишь непрекращающийся бунт преходящего против вечного, человеческого разума против веры, чувственного против духовного». Филиппику Панофского следует уточнить: изгнание «красоты» из мира веры – если и напоминает о платоновской республике, то никак не напоминает европейских неоплатоников, в частности неоплатоников Флоренции; Платоном вдохновлялся Пико делла Мирандола, и Платоном поверял свои занятия Мантенья. Скорее Бернар Клервоский предвосхищает пуризм Джироламо Савонаролы и, в еще большей степени, нетерпимость Лютера. Важнее в данном конфликте то, что фактически идет спор о свободе воли – диалог Эразма и Лютера представлен здесь в редуцированном, но явном виде. Скрытый спор Сюжера и Бернара является моделью, проектом спора о самовыражении человека, который сопутствует истории искусства в Европе. Сочинения «О свободе воли» Блаженного Августина, «О благодати и свободной воле» Бернара Клервоского, «Диатриба, или Рассуждение о свободе воли» Эразма Роттердамского, сочинение Мартина Лютера «О рабстве воли» – эти труды имеют самое прямое отношение к искусству живописи.
В поединке двух противоположных концепций: Фичино и Савонаролы, Эразма Роттердамского и Мартина Лютера, аббата Сюжера и Бернара Клервоского содержится драма пластических искусств Европы. Масляная фигуративная живопись как квинтэссенция готики, как предельное выражение свободной личности – и декоративно-манипулятивное искусство как опора конфессиональной веры и как инструментарий империи: фактически это выбор между свободной личностью и сильным государством. Выбор между верой в разум и верой, утвержденной разумом, или верой вопреки разуму – все эти дефиниции нашли предметное воплощение в живописи. Живопись масляными красками – это уже не икона и это еще не знак, к которому стремится авангард.
Живопись масляными красками балансирует меж двух безличных видов искусства, живопись вышла из иконы и готова раствориться в знаке; но несколько сотен лет живопись существует. Благодаря временной победе в этом споре эстетики аббата Сюжера мы получили Ренессанс и Ван Гога; однако спор длится до тех пор, пока существует Европа; сегодня Сюжер проигрывает.
Имеются все основания считать, что сегодняшняя Европа переживает момент торжества аргументации Бернара Клервоского.