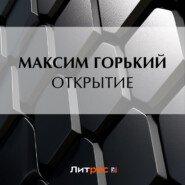По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Детство. В людях. Мои университеты
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Хлупость! Что мне до него, до Томася? На что он мне сдался? Должны быть иные книги…
Однажды я сказал ему, что мне известно – есть другие книги, подпольные, запрещенные; их можно читать только ночью, в подвалах.
Он вытаращил глаза, ощетинился.
– Ш-шо такое? Шо ты врешь?
– Я не вру, меня про них поп на исповеди спрашивал, а до того я сам видел, как их читают и плачут…
Повар, угрюмо глядя в лицо мне, спросил:
– Кто плачет?
– Барыня, которая слушала. А другая убежала даже со страху…
– Проснись, бредишь, – сказал Смурый, медленно прикрывая глаза, а помолчав, забормотал: – Конечно, где-нибудь есть… что-нибудь скрытое. Не быть его – не может… Не таковы мои годы, да и характер мой тож… Ну, а однако ж…
Он мог говорить столь красноречиво целый час…
Незаметно для себя я привык читать и брал книгу с удовольствием; то, о чем рассказывали книги, приятно отличалось от жизни, – она становилась все тяжелее.
Смурый, тоже увлекаясь чтением все больше, часто отрывал меня от работы.
– Пешков, иди читать.
– У меня немытой посуды много.
– Максим вымоет.
Он грубо гнал старшего посудника на мою работу, тот со зла бил стаканы, а буфетчик смиренно предупреждал меня:
– Ссажу с парохода.
Однажды Максим нарочно положил в таз с грязной водой и спитым чаем несколько стаканов, а я выплеснул воду за борт, и стаканы полетели туда же.
– Это моя вина! – сказал Смурый буфетчику. – Запишите мне.
Буфетная прислуга стала смотреть на меня исподлобья, мне говорили:
– Эй ты, книгочей! Ты за что деньги получаешь?
И старались дать мне работы возможно больше, зря пачкая посуду. Я понимал, что все это плохо кончится для меня, и не ошибся.
Под вечер с какой-то маленькой пристани к нам на пароход села краснорожая баба с девицей в желтом платке и розовой новой кофте. Обе они были выпивши, – баба улыбалась, кланялась всем и говорила на о, точно дьякон:
– Простите, родные, выпила я немножко! Судили меня, оправдали, вот я на радостях и выпила…
Девушка тоже смеялась, глядя на людей мутными глазами, и толкала бабу:
– А ты иди, чумовая, иди знай…
Они поместились около рубки второго класса, против каюты, где спал Яков Иванович и Сергей. Баба скоро куда-то исчезла, а к девушке подсел Сергей, жадно растягивая лягушечий рот.
Ночью, когда я, кончив работу, ложился спать на столе, Сергей подошел ко мне и схватил за руку.
– Иди, мы тебя женим…
Он был пьян. Я попытался вырвать руку, но он ударил меня.
– Иди-и!
Подбежал Максим, тоже пьяный, и вдвоем они потащили меня по палубе к своей каюте, мимо спящих пассажиров. Но у дверей каюты стоял Смурый, в двери, держась за косяки, – Яков Иваныч, а девица колотила его по спине кулаками и пьяным голосом кричала:
– Пуститя…
Смурый выдернул меня из рук Сергея и Максима, схватил их за волосы и, стукнув головами, отшвырнул, – они оба упали.
– Азиат! – сказал он Якову, захлопнув дверь на нос ему, и загудел, толкая меня:
– Ступай прочь!
Я убежал на корму. Ночь была облачная, река – черная; за кормою кипели две серые дорожки, расходясь к невидимым берегам; между этих дорожек тащилась баржа. То справа, то слева являются красные пятна огней и, ничего не ответив, исчезают за неожиданными поворотами берега; после них становится еще более темно и обидно.
Пришел повар, сел рядом со мною, вздохнул тяжко и закурил папиросу.
– Они тебя к этой тащили? Эт, поганцы! Я же слышал, как они посягали…
– Вы отняли ее у них?
– Ее? – Он грубо обругал девицу и продолжал тяжелым голосом: – Тут все гады. Пароходишко этот – хуже деревни. В деревне жил?
– Нет.
– Деревня – насквозь беда! Особенно зимой…
Бросив окурок за борт, он помолчал и заговорил снова:
– Пропадешь ты в свином стаде, жалко мне тебя, кутенок. И всех жалко. Иной раз не знаю, что сделал бы… даже на колени бы встал и спросил: «Что ж вы делаете, сукины сыны, а? Что вы, слепые?» Верблюды…
Пароход протяжно загудел, буксир шлепнулся в воду; в густой темноте закачался огонь фонаря, указывая, где пристань, из тьмы спускались еще огни.
– Пьяный Бор, – ворчал повар. – И река есть – Пьяная. Был каптенармус – Пьянков… И писарь – Запивохин… Пойду на берег…
Крупные камские бабы и девки таскали с берега дрова на длинных носилках. Изгибаясь под лямками, упруго пританцовывая, пара за парой они шли к трюму кочегарни и сбрасывали полсажени поленьев в черную яму, звонко выкрикивая:
– Трушша!
Когда они шли с дровами, матросы хватали их за груди, за ноги, бабы визжали, плевали на мужиков; возвращаясь назад, они оборонялись от щипков и толчков ударами носилок. Я видел это десятки раз – каждый рейс: на всех пристанях, где грузили дрова, было то же самое.