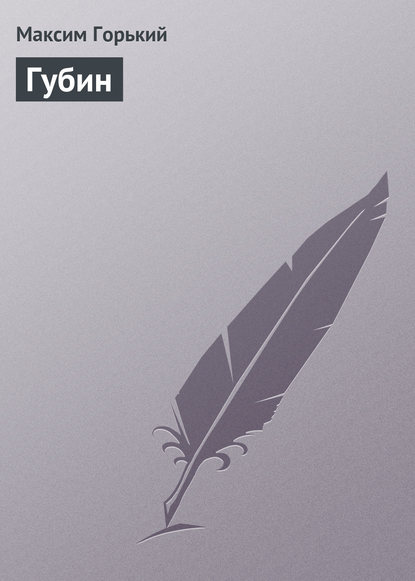По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Губин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Небо на востоке багровое и то светлее, то темнее; порою видны черные клубы дыма, и огонь раскаленными ножами врезается в густую ткань. Лес высок и плотен, точно гора; на вершине ее, извиваясь, ползет огненный змей, машет красными крыльями и тонет, поглощенный дымом. Мне кажется, что я слышу злой, кипучий треск и шум яростной борьбы черного и красного, вижу, как белые испуганные зайцы, осыпаемые дождем искр, мечутся между корней, а в ветвях бьются, задыхаясь дымом, опаленные птицы. Всё шире и победоносней простирает крылья красный змей, пожирая тьму, истребляя смолистый лес.
…Из черной дыры в стене бани выкатилась белая фигура и быстро замелькала между деревьями, а вслед ей кто-то наказывал внятным шёпотом:
– Не забудь же! Обязательно пришли!
– Ладно…
– Утром хромая зайдет – слышишь?
Женщина исчезла, потом кто-то, не торопясь, прошел вверх по саду и, тяжело царапая доски, перелез через забор.
Не спалось, до рассвета вплоть лежал я, глядя, как горит лес. Скатилась с неба усталая луна, а над крестами княжой церкви вспыхнула Венера, холодная и зеленая, как изумруд, – здесь ей и гореть, если князь с княгиней всю жизнь прожили «в ненарушимой любви». Одна для одного и один для одной на всю жизнь…
Роса смыла с деревьев ночную тьму, и в зелени, седой от росы, стали улыбаться розовые яблоки анис, засверкала золотом пахучая антоновка. Прилетели щеглята в алых колпаках. Осыпались, падали на землю желтые листья, похожие на птиц, и порою нельзя было понять – лист или щегленок мелькнул.
Тяжело вздохнув, проснулся Губин, продрал кривыми пальцами запухшие глаза, встал на четвереньки и – весь измятый сном – вылез из сторожки, обнюхивая воздух, как собака, смешно двигая острым носом. Встал на ноги, потряс большой сук яблони – зрелые плоды покатились по сухой земле, прячась в траву. Он поднял три, тщательно осмотрел их, вонзил изломанные зубы в сочный плод и, чавкая, стал разгонять пинками ноги упавшие на виду яблоки.
– Зачем ты яблоки зря погубил?
– Не спишь? – оборотился он ко мне, кивнув дынной головой. – Жалеть их не к чему, много их… Яблоки эти отец мой сажал…
И, подмигивая мне зорким, приятным глазом, хихикая сладко, он забормотал:
– Наденька-то, а? Надежда Иванна – ловко! Ну, я ж им устрою праздник. Я…
– Зачем?
Он нахмурился и сказал поучительно:
– Я, брат, людям доброжелатель… ежели я вижу где промежду них злобу или лживость какую – я всегда обязан это вскрыть – наголо! Людей надобно учить: живите правдой, дряни…
Из-за облаков вознеслось солнце – лицо у него было тусклое и печальное, как у нездорового ребенка; казалось, оно чувствует себя виновато, что опоздало осветить землю, залежавшись на мягких тучах и в дыме лесного пожара. Сад облился теплыми лучами и густо вздохнул хмельным ароматом созревших плодов – дыханием осени.
Но вослед солнцу в небо поднимались тесною толпою сизые и белые, как снег, облака, их мягкие бугры отразились в тихой Оке, сотворив в ней иное небо, столь же глубокое и мягкое.
– Айда, Макар! – командует Губин.
…Я стою на дне глубокого, свыше трех сажен, колодца, по пояс в жидкой, холодной грязи; удушливо пахнет гнилым деревом и еще чем-то невыносимо противным. Черпая грязь ведром, сливаю в бадью и, наполнив ее, кричу:
– Готово!
Бадья качается, толкает меня, неохотно тянется вверх, с нее на голову, на плечи мне падают жидкие комья грязи, капает вода. Темный круг ее дна закрывает выгоревшее небо и чуть видимые мною звезды; так жутко и приятно – видеть звезды, зная, что в небе горит солнце.
Все время я смотрю вверх – ломит шею, ноют позвонки, затылок точно свинцом налит, а – хочется видеть эти дневные звезды, и нельзя оторвать глаз от них: они показывают всё небо новым и почему-то хорошо знать, что солнце не одиноко в нем.
Хочется думать о чем-то огромном, но мне мешает тупая, неотвязная тревога: вот проснутся Биркины, вылезут на двор, и Губин расскажет им о Надежде.
Сверху опускаются его слова, невнятные и точно распухшие от сырости:
– Еще крыса… Богатей – х-ха! Десять лет колодец не чистили… Что пили, дьяволы! Берегись там…
Скрипит блок; толкаясь о сруб и глухо постукивая, на меня опускается бадья, снова плюет грязью на плечи и голову мне. Заставить бы самих Биркиных делать эту работу…
– Сменяй!
– Что мало?
– Холодно! Терпенья нет…
– Н-но! – кричит Губин на старую лошадь, силою которой поднимается бадья; я сажусь верхом на край бадьи и еду вверх: на земле очень светло, тепло и, по-новому, незнакомо приятно.
Теперь Губин на дне колодца. Из сырой, черной дыры вместе с запахом гнили поднимаются его ругательства, глухой плеск грязи, гулкие удары железного ведра о цепь бадьи.
– Скопидо-омы… Гляди там – еще что-то есть, не то собака, не то ребенок, что ли… Азиаты проклятые…
В бадье оказалась разбухшая шапка – Губин огорчился.
– Ребенка бы найти, да объявить полиции, да под суд их, милых…
Пегая опоенная лошадь, с бельмом во йесь глаз, шевелит лысыми ушами, стряхивая синих мух. Мерным шагом старой богомолки она ходит от колодца к воротам, вытягивая тяжелую бадью, и каждый раз, дойдя до ворот, вздыхает, низко опуская костлявую голову.
В углу двора, покрытого ковром рыжей, выгоревшей, притоптанной травы, скрипнула дверь – вышла Надежда Биркина со связкой ключей в руках, а за нею круглая, как бочка, баба – старая, с черными усами на толстой, презрительно вздернутой губе. Они пошли к погребу – Биркина шла лениво, одетая в одну нижнюю юбку, в рубахе, съезжавшей с плеч, в туфлях на босую ногу.
– Чего глаза пялишь? – крикнула мне баба, свирепо выкатив темные, мутные, точно слепые глаза, утонувшие в багровых щеках совсем не там, где надо.
«Свекровь», – подумал я.
У двери погреба Биркина отдала ей ключи и неспешно, колыхая полными грудями, оправляя рубаху, всё сползавшую с круглых и крутых плеч, подошла ко мне, говоря:
– Подворотню надо вынуть, пусть грязь на улицу текет. Весь двор залили. Запах-то какой… Крыса, никак? Ой, батюшки, сколько пакости!..
Лицо у нее было усталое, в глазницах темные пятна, а глаза горят сухо, как у человека, не спавшего всю ночь. Было еще свежо, но на висках ее блеетел пот. И плечи у нее были тяжелые, сырые, как недопеченый хлеб, чуть прихваченный жаром, покрытый тонкою, румяной коркою.
– Калитку отопри! Тут… нищая, старушка хромая придет… кликни меня… меня – Надежду Ивановну, слышишь?
Из колодца донеслось:
– Кто говорит?
– Хозяйка…
– Надежда – э-эх-ма! Мне бы с ней пару словечек…
– Что он кричит? – спросила женщина, с усилием приподнимая темные, чуть намеченные брови, и хотела наклониться к срубу, но я неожиданно для себя сказал:
– Видел он, как ты ночью шла…
– Что-о?
…Из черной дыры в стене бани выкатилась белая фигура и быстро замелькала между деревьями, а вслед ей кто-то наказывал внятным шёпотом:
– Не забудь же! Обязательно пришли!
– Ладно…
– Утром хромая зайдет – слышишь?
Женщина исчезла, потом кто-то, не торопясь, прошел вверх по саду и, тяжело царапая доски, перелез через забор.
Не спалось, до рассвета вплоть лежал я, глядя, как горит лес. Скатилась с неба усталая луна, а над крестами княжой церкви вспыхнула Венера, холодная и зеленая, как изумруд, – здесь ей и гореть, если князь с княгиней всю жизнь прожили «в ненарушимой любви». Одна для одного и один для одной на всю жизнь…
Роса смыла с деревьев ночную тьму, и в зелени, седой от росы, стали улыбаться розовые яблоки анис, засверкала золотом пахучая антоновка. Прилетели щеглята в алых колпаках. Осыпались, падали на землю желтые листья, похожие на птиц, и порою нельзя было понять – лист или щегленок мелькнул.
Тяжело вздохнув, проснулся Губин, продрал кривыми пальцами запухшие глаза, встал на четвереньки и – весь измятый сном – вылез из сторожки, обнюхивая воздух, как собака, смешно двигая острым носом. Встал на ноги, потряс большой сук яблони – зрелые плоды покатились по сухой земле, прячась в траву. Он поднял три, тщательно осмотрел их, вонзил изломанные зубы в сочный плод и, чавкая, стал разгонять пинками ноги упавшие на виду яблоки.
– Зачем ты яблоки зря погубил?
– Не спишь? – оборотился он ко мне, кивнув дынной головой. – Жалеть их не к чему, много их… Яблоки эти отец мой сажал…
И, подмигивая мне зорким, приятным глазом, хихикая сладко, он забормотал:
– Наденька-то, а? Надежда Иванна – ловко! Ну, я ж им устрою праздник. Я…
– Зачем?
Он нахмурился и сказал поучительно:
– Я, брат, людям доброжелатель… ежели я вижу где промежду них злобу или лживость какую – я всегда обязан это вскрыть – наголо! Людей надобно учить: живите правдой, дряни…
Из-за облаков вознеслось солнце – лицо у него было тусклое и печальное, как у нездорового ребенка; казалось, оно чувствует себя виновато, что опоздало осветить землю, залежавшись на мягких тучах и в дыме лесного пожара. Сад облился теплыми лучами и густо вздохнул хмельным ароматом созревших плодов – дыханием осени.
Но вослед солнцу в небо поднимались тесною толпою сизые и белые, как снег, облака, их мягкие бугры отразились в тихой Оке, сотворив в ней иное небо, столь же глубокое и мягкое.
– Айда, Макар! – командует Губин.
…Я стою на дне глубокого, свыше трех сажен, колодца, по пояс в жидкой, холодной грязи; удушливо пахнет гнилым деревом и еще чем-то невыносимо противным. Черпая грязь ведром, сливаю в бадью и, наполнив ее, кричу:
– Готово!
Бадья качается, толкает меня, неохотно тянется вверх, с нее на голову, на плечи мне падают жидкие комья грязи, капает вода. Темный круг ее дна закрывает выгоревшее небо и чуть видимые мною звезды; так жутко и приятно – видеть звезды, зная, что в небе горит солнце.
Все время я смотрю вверх – ломит шею, ноют позвонки, затылок точно свинцом налит, а – хочется видеть эти дневные звезды, и нельзя оторвать глаз от них: они показывают всё небо новым и почему-то хорошо знать, что солнце не одиноко в нем.
Хочется думать о чем-то огромном, но мне мешает тупая, неотвязная тревога: вот проснутся Биркины, вылезут на двор, и Губин расскажет им о Надежде.
Сверху опускаются его слова, невнятные и точно распухшие от сырости:
– Еще крыса… Богатей – х-ха! Десять лет колодец не чистили… Что пили, дьяволы! Берегись там…
Скрипит блок; толкаясь о сруб и глухо постукивая, на меня опускается бадья, снова плюет грязью на плечи и голову мне. Заставить бы самих Биркиных делать эту работу…
– Сменяй!
– Что мало?
– Холодно! Терпенья нет…
– Н-но! – кричит Губин на старую лошадь, силою которой поднимается бадья; я сажусь верхом на край бадьи и еду вверх: на земле очень светло, тепло и, по-новому, незнакомо приятно.
Теперь Губин на дне колодца. Из сырой, черной дыры вместе с запахом гнили поднимаются его ругательства, глухой плеск грязи, гулкие удары железного ведра о цепь бадьи.
– Скопидо-омы… Гляди там – еще что-то есть, не то собака, не то ребенок, что ли… Азиаты проклятые…
В бадье оказалась разбухшая шапка – Губин огорчился.
– Ребенка бы найти, да объявить полиции, да под суд их, милых…
Пегая опоенная лошадь, с бельмом во йесь глаз, шевелит лысыми ушами, стряхивая синих мух. Мерным шагом старой богомолки она ходит от колодца к воротам, вытягивая тяжелую бадью, и каждый раз, дойдя до ворот, вздыхает, низко опуская костлявую голову.
В углу двора, покрытого ковром рыжей, выгоревшей, притоптанной травы, скрипнула дверь – вышла Надежда Биркина со связкой ключей в руках, а за нею круглая, как бочка, баба – старая, с черными усами на толстой, презрительно вздернутой губе. Они пошли к погребу – Биркина шла лениво, одетая в одну нижнюю юбку, в рубахе, съезжавшей с плеч, в туфлях на босую ногу.
– Чего глаза пялишь? – крикнула мне баба, свирепо выкатив темные, мутные, точно слепые глаза, утонувшие в багровых щеках совсем не там, где надо.
«Свекровь», – подумал я.
У двери погреба Биркина отдала ей ключи и неспешно, колыхая полными грудями, оправляя рубаху, всё сползавшую с круглых и крутых плеч, подошла ко мне, говоря:
– Подворотню надо вынуть, пусть грязь на улицу текет. Весь двор залили. Запах-то какой… Крыса, никак? Ой, батюшки, сколько пакости!..
Лицо у нее было усталое, в глазницах темные пятна, а глаза горят сухо, как у человека, не спавшего всю ночь. Было еще свежо, но на висках ее блеетел пот. И плечи у нее были тяжелые, сырые, как недопеченый хлеб, чуть прихваченный жаром, покрытый тонкою, румяной коркою.
– Калитку отопри! Тут… нищая, старушка хромая придет… кликни меня… меня – Надежду Ивановну, слышишь?
Из колодца донеслось:
– Кто говорит?
– Хозяйка…
– Надежда – э-эх-ма! Мне бы с ней пару словечек…
– Что он кричит? – спросила женщина, с усилием приподнимая темные, чуть намеченные брови, и хотела наклониться к срубу, но я неожиданно для себя сказал:
– Видел он, как ты ночью шла…
– Что-о?