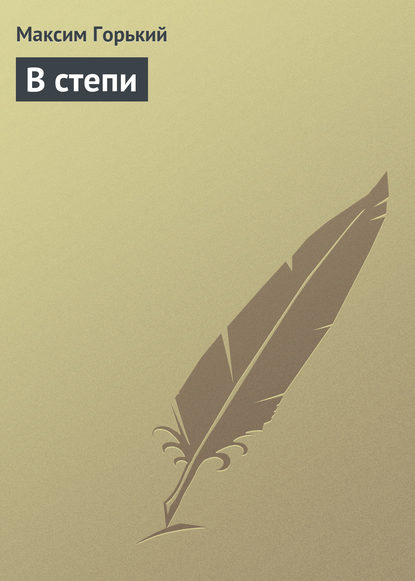По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В степи
Автор
Год написания книги
1897
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не подходи, – застрелю!
В мутном воздухе раздался сухой, краткий щелчок. Мы остановились, как по команде, и несколько секунд молчали, ошеломлённые нелюбезной встречей.
– Вот так мер-рзавец! – выразительно пробормотал солдат.
– Н-да, – задумчиво сказал «студент». – С револьвером ходит… видно, икряная рыба…
– Эй! – крикнул солдат, очевидно, решив что-то. Человек, не изменяя позы, молчал.
– Эй, ты! Мы не тронем тебя, – дай нам только хлеба – есть? Дай, брат, Христа ради!..
Будь ты, анафема, проклят!
Последние слова солдат произнёс себе в усы. Человек молчал.
– Слышишь? – с дрожью злобы и отчаяния снова заговорил солдат. – Дай, мол, хлеба! Мы не подойдём к тебе… брось нам его…
– Ладно, – кратко сказал человек.
Он мог бы сказать нам «дорогие братья мои!» – и, если б он влил в эти три слова все самые святые и чистые чувства, они не возбудили бы нас так и не очеловечили бы настолько, как это глухое краткое «ладно»!
– Ты не бойся нас, добрый человек, – мягко улыбаясь, заговорил солдат, хотя человек не мог видеть его улыбки, ибо был отделён от нас расстоянием по крайней мере в двадцать шагов.
– Мы люди смирные, – идём из России в Кубань… подшиблись деньгой в дороге, всё с себя проели, – а теперь вот уж вторые сутки не жрамши…
– Держи! – сказал добрый человек, взмахнув рукой в воздухе. Чёрный кусок мелькнул и упал неподалёку от нас на пашню. «Студент» бросился за ним.
– Ещё держи! Больше нет…
Когда «студент» собрал эту оригинальную подачку, оказалось, что мы имеем фунта четыре пшеничного чёрствого хлеба. Он был вывалян в земле и очень чёрств. Чёрствый хлеб сытнее мягкого: в нём меньше влаги.
– Так… и так… и так! – сосредоточенно распределял солдат куски. – Стой… не ровно! У тебя, учёный, надо ущипнуть кусочек, а то ему мало…
«Студент» беспрекословно подчинился утрате кусочка хлеба золотников в пять весом; я получил его, положил в рот.
И стал жевать, медленно жевать, едва сдерживая судорожное движение челюстей, готовых искрошить камень. Мне доставляло острое наслаждение чувствовать судороги пищевода и понемножку, капельками удовлетворять его. Глоток за глотком, тёплые, неописуемо вкусные, проникали в желудок и, казалось, тотчас же превращались в кровь и мозг. Радость, – такая странная, тихая и оживляющая радость, грела сердце по мере того, как наполнялся желудок. Я позабыл о проклятых днях хронического голода, позабыл о моих товарищах, погружённый в наслаждение ощущениями, которые я переживал.
Но когда я сбросил с ладони в рот последние крошки хлеба, то почувствовал, что смертельно хочу есть.
– У него, анафемы, сало там ещё осталось или мясо какое-то… – ворчал солдат, сидя на земле против меня и потирая руками желудок.
– Наверное, потому хлеб имел запах мяса… Да и хлеб, наверно, остался, – сказал «студент» и тихонько добавил: – Если бы не револьвер…
– Кто он такой?
– Видно, наш брат Исакий…
– Собака! – решил солдат.
Мы сидели тесной группой, посматривая туда, где сидел наш благодетель с револьвером.
Оттуда до нас не доносилось ни звука, ни признака жизни.
Ночь собирала вокруг свои тёмные силы. Мертвенно-тихо было в степи, – мы слышали дыхание друг друга. Иногда где-то раздавался меланхолический свист суслика… Звёзды, живые цветы неба, горели над нами… Мы хотели есть.
С гордостью говорю – я был не хуже и не лучше моих случайных товарищей в эту несколько странную ночь. Я предложил им встать и идти на этого человека. Не нужно трогать его, но мы съедим всё, что найдём. Он будет стрелять, – пускай! Из троих попадёт только в одного, – если попадёт; а если и попадёт, так едва ли револьверная пуля убьёт насмерть.
– Идём! – сказал солдат, вскочив на ноги. «Студент» поднялся медленнее его.
И мы пошли, почти побежали. «Студент» держался сзади нас.
– Товарищ! – укоризненно крикнул ему солдат. Навстречу нам неслось глухое бормотанье и резкий звук щёлкающего курка. Вот сверкнул огонь, раздался сухой звук выстрела.
– Мимо! – радостно крикнул солдат, одним прыжком достигая человека. – Ну, дьявол, я ж тебе теперь задам…
«Студент» бросился к котомке.
А «дьявол» упал с колен на спину и, разметав руки, хрипел…
– Что за чёрт! – изумился солдат, уже поднявший ногу, чтобы дать пинка этому человеку. – Неужто он в себя ахнул? Ты! Что ты? Эй! Застрелился, что ли?
– И мясо, и какие-то лепёшки, и хлеб… много, братцы! – раздался ликующий голос «студента».
– Ну, чёрт с тобой, издыхай… Едим! – крикнул солдат. Я вынул револьвер из руки человека, который уже перестал хрипеть и лежал теперь неподвижно. В барабане был ещё один патрон.
Мы снова ели, ели молча. Человек лежал и тоже молчал, не двигая ни одним членом. Мы не обращали на него внимания.
– Неужто, братцы родные, вы это только из-за хлеба? – вдруг раздался хриплый и дрожащий голос.
Мы все вздрогнули. «Студент» даже поперхнулся и, согнувшись к земле, стал кашлять.
Солдат, прожевав кусок, начал ругаться.
– Собачья ты душа, чтоб те треснуть, как сухой колоде! Шкуру, что ли, мы с тебя сдерём? На кой она нам нужна? Дурье твоё рыло, поганый дух! На-ко! – вооружился и палит в людей! Анафема ты…
Он ругался и ел, отчего ругань его теряла выразительность и силу…
– Погоди, вот мы поедим, так рассчитаемся с тобой, – зловеще пообещал «студент».
Тогда в тишине ночи раздались воющие рыдания, испугавшие нас.
– Братцы… разве я знал? Стрелял… потому что боюсь. Иду из Нового Афона… в Смоленскую губернию… господи! Лихорадка смаяла… как солнце зайдёт – беда моя! От лихорадки и с Афона ушёл… столярил там… столяр я… Дома жена… две девочки… три года четвёртый не видал их… братцы! Всё ешьте…
– Съедим, не проси, – сказал «студент».
– Господи боже! кабы я знал, что вы мирные, хорошие люди… разве бы я стал стрелять?
А тут, братцы, степь, ночь… виноват я?