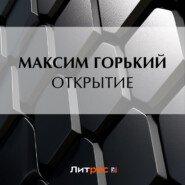По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Детство. В людях. Мои университеты
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Книга была моей собственностью, – старик брандмейстер подарил мне ее, было жалко отдавать Лермонтова. Но когда я, несколько обиженный, отказался от денег, Жихарев спокойно сунул монету в кошелек и непоколебимо заявил:
– Как хочешь, а я не отдам книги! Эта книга – не для тебя, это такая книга, что с нею недолго и греха нажить.
– Да ее же в магазине продают, я видел!
Но он сугубо убедительно сказал мне:
– Это ничего не значит, в магазинах и пистолеты продают…
Так и не отдал мне Лермонтова.
Идя наверх, прощаться с хозяйкой, я столкнулся в сенях с ее племянницей, она спросила:
– Говорят – уходишь ты?
– Ухожу.
– Кабы не ушел, так бы выгнали, – сообщила она мне, не очень любезно, но вполне искренне.
А пьяненькая хозяйка сказала:
– Прощай, Христос с тобой! Ты – нехороший мальчик, дерзкий! Хоть я плохого от тебя ничего не видала, а все говорят – нехороший ты!
И вдруг заплакала, говоря сквозь слезы:
– Был бы жив покойник, муженек мой сладкий, милая душенька, дал бы он тебе выволочку, накидал бы тебе подзатыльников, а – оставил бы, не гнал! А нынче все пошло по-другому, чуть что не так – во-он, прочь! Ох, и куда ты, мальчик, денешься, к чему прислонишься?
Глава XVI
Я еду с хозяином на лодке по улицам ярмарки, среди каменных лавок, залитых половодьем до высоты вторых этажей. Я – на веслах; хозяин, сидя на корме, неумело правит, глубоко запуская в воду кормовое весло; лодка неуклюже юлит, повертывая из улицы в улицу по тихой, мутно задумавшейся воде.
– Эх, высока нынче вода, черт ее возьми! Задержит она работы, – ворчит хозяин, покуривая сигару; дым ее пахнет горелым сукном.
– Тише! – испуганно кричит он. – На фонарь едем!
Справился с лодкой и ругается:
– Ну, и лодку дали, подлецы!..
Он показывает мне места, где, после спада воды, начнутся работы по ремонту лавок. Досиня выбритый, с подстриженными усами и сигарой во рту, он не похож на подрядчика. На нем кожаная куртка, высокие до колеи сапоги, через плечо – ягдташ, в ногах торчит дорогое двухствольное ружье Лебеля. Он то и дело беспокойно передвигает кожаную фуражку – надвинет ее на глаза, надует губы и озабоченно смотрит вокруг; собьет фуражку на затылок, помолодеет и улыбается в усы, думая о чем-то приятном, – и не верится, что у него много работы, что медленная убыль воды беспокоит его, – в нем гуляет волна каких-то, видимо, неделовых дум.
А я подавлен чувством тихого удивления: так странно видеть этот мертвый город, прямые ряды зданий с закрытыми окнами, – город, сплошь залитый водою и точно плывущий мимо нашей лодки.
Небо серое. Солнце заплуталось в облаках, лишь изредка просвечивая сквозь их гущу большим серебряным, по-зимнему, пятном.
Вода тоже сера и холодна; течение ее незаметно; кажется, что она застыла, уснула вместе с пустыми домами, рядами лавок, окрашенных в грязно-желтый цвет. Когда сквозь облака смотрит белесое солнце, все вокруг немножко посветлеет, вода отражает серую ткань неба, – наша лодка висит в воздухе между двух небес; каменные здания тоже приподнимаются и чуть заметно плывут к Волге, Оке. Вокруг лодки качаются разбитые бочки, ящики, корзины, щепа и солома, иногда мертвой змеей проплывет жердь или бревно.
Кое-где окна открыты, на крышах рядских галерей сушится белье, торчат валяные сапоги; из окна на серую воду смотрит женщина, к вершине чугунной колонки галерей причалена лодка, ее красные борта отражены водою жирно и мясисто.
Кивая головой на эти признаки жизни, хозяин объясняет мне:
– Это – ярмарочный сторож живет. Вылезет из окна на крышу, сядет в лодку и ездит, смотрит – нет ли где воров? А нет воров – сам ворует…
Он говорит лениво, спокойно, думая о чем-то другом. Вокруг тихо, пустынно и невероятно, как во сне. Волга и Ока слились в огромное озеро; вдали, на мохнатой горе, пестро красуется город, весь в садах, еще темных, но почки деревьев уже набухли, и сады одевают дома и церкви зеленоватой теплой шубой. Над водою стелется густо пасхальный звон, слышно, как гудит город, а здесь – точно на забытом кладбище.
Наша лодка вертится между двух рядов черных деревьев, мы едем Главной линией к Старому собору. Сигара беспокоит хозяина, застилая ему глаза едким дымом, лодка то и дело тычется носом или бортом о стволы деревьев, – хозяин раздраженно удивляется:
– Этакая подлая лодка!
– Да вы не правьте.
– Как же можно? – ворчит он. – Если в лодке двое, то всегда – один гребет, другой правит. Вот – смотри: Китайские ряды…
Я давно знаю ярмарку насквозь; знаю и эти смешные ряды с нелепыми крышами; по углам крыш сидят, скрестив ноги, гипсовые фигуры китайцев; когда-то я со своими товарищами швырял в них камнями, и у некоторых китайцев именно мною отбиты головы, руки. Но я уже не горжусь этим…
– Ерунда, – говорит хозяин, указывая на ряды. – Кабы мне дали строить это…
Он свистит, сдвигая фуражку на затылок.
А мне почему-то думается, что он построил бы этот каменный город так же скучно, на этом же низком месте, которое ежегодно заливают воды двух рек. И Китайские ряды выдумал бы…
Утопив сигару за бортом, он сопроводил ее плевком отвращения и говорит:
– Скушно, Пешков! Скушно. Образованных людей – нет, поговорить – не с кем. Захочется похвастать – а перед кем? Нет людей. Всё плотники, каменщики, мужики, жулье…
Он смотрит вправо, на белую мечеть, красиво поднявшуюся из воды, на холме, и продолжает, словно вспоминая забытое:
– Начал я пиво пить, сигары курю, живу под немца. Немцы, брат, народ деловой, т-такие звери-курицы! Пиво – приятное занятие, а к сигарам – не привык еще! Накуришься, жена ворчит: «Чем это от тебя пахнет, как от шорника?» Да, брат, живем, ухитряемся… Ну-ка, правь сам…
Положив весло на борт, он берет ружье и стреляет в китайца на крыше, – китаец не потерпел вреда, дробь осеяла крышу и стену, подняв в воздухе пыльные дымки.
– Не попал, – без сожаления сознается стрелок и снова вкладывает в ружье патрон.
– Ты как насчет девчонок – разговелся? Нет? А я в тринадцать лет уже влюблялся…
Он рассказывает, как сон, историю своей первой любви к горничной архитектора, у которого он жил учеником. Тихонько плещет серая вода, омывая углы зданий, за собором тускло блестит водная пустыня, кое-где над нею поднимаются черные прутья лозняка.
В иконописной мастерской часто певали семинарскую песню:
Море синее,
Море бурное…
Скука смертельная, должно быть, это синее море…
– Ночей не спал, – говорит хозяин. – Бывало, встану с постели и стою у двери ее, дрожу, как собачонка, – дом холодный был! По ночам ее хозяин посещал, мог меня застать, а я – не боялся, да…
Он говорит задумчиво, точно рассматривая старое, изношенное платье – можно надеть еще раз или нет?