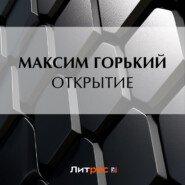По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Детство. В людях. Мои университеты
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не про побои, а душу – обижали?
– Душу нельзя обидеть, душа обиды не принимает, – говорит он. – Души человеческой никак не коснешься, ничем…
Палубные пассажиры, матросы, все люди говорили о душе так же много и часто, как о земле, – работе, о хлебе и женщинах. Душа – десятое слово в речах простых людей, слово ходовое, как пятак. Мне не нравится, что слово это так прижилось на скользких языках людей, а когда мужики матерщинничают, злобно и ласково, поганя душу, – это бьет меня по сердцу.
Я очень помню, как осторожно говорила бабушка о душе, таинственном вместилище любви, красоты, радости, я верил, что после смерти хорошего человека белые ангелы относят душу его в голубое небо, к доброму богу моей бабушки, а он ласково встречает ее:
– Что, моя милая, что, моя чистая, – настрадалась, намаялась?
И дает душе серафимовы крылья – шесть белых крылий.
Яков Шумов говорит о душе так же осторожно, мало и неохотно, как говорила о ней бабушка. Ругаясь, он не задевал душу, а когда о ней рассуждали другие, молчал, согнув красную бычью шею. Когда я спрашиваю его – что такое душа? – он отвечает:
– Дух, дыхание божие…
Мне мало этого, я спрашиваю еще о чем-то, тогда кочегар, наклонив голову, говорит:
– О душе, браток, и попы мало понимают, это дело закрытое…
Он держит меня в постоянных думах о нем, в упорном напряжении понять его, но это напряжение безуспешно. Кроме него, я ничего не вижу, он все заслоняет от меня своей широкой фигурой.
Ко мне подозрительно ласково относится буфетчица, – утром я должен подавать ей умываться, хотя это обязанность второклассной горничной Луши, чистенькой и веселой девушки. Когда я стою в тесной каюте, около буфетчицы, по пояс голой, и вижу ее желтое тело, дряблое, как перекисшее тесто, вспоминается литое, смуглое тело Королевы Марго, и – мне противно. А буфетчица все говорит о чем-то, то жалобно и ворчливо, то сердито и насмешливо.
Смысл ее речей не доходит до меня, хотя я как бы издали догадываюсь о нем, – это жалкий, нищенский, стыдный смысл. Но я не возмущаюсь – я живу далеко от буфетчицы и ото всего, что делается на пароходе, я – за большим мохнатым камнем, он скрывает от меня весь этот мир, день и ночь плывущий куда-то.
– Совсем влюбилась в тебя наша Гавриловна, – как сквозь сон слышу я насмешливые слова Луши. – Разевай рот, лови счастье…
Не только она высмеивает меня, вся буфетная прислуга знает о слабости хозяйки, а повар говорит, морщась:
– Всего баба покушала – пирожного захотела, безе! Н-народ… Гляди, Пешков, в оба, а зри – в три…
И Яков тоже внушает мне отечески деловито:
– Конешно, ежели бы ты был лета на два старше, ну – я бы те сказал иначе как, а теперь, при твоих годах, – лучше, пожалуй, не сдавайся! А то – как хоть…
– Брось, – говорю я, – пакость это…
– Конешно…
Но тотчас же, пытаясь растрепать пальцами свалявшиеся волосы на голове, сеет свои кругленькие слова:
– Ну, тоже и ее дело надо понять, – это дело – скудное, дело зимнее… И собака любит, когда ее гладят, того боле – человек! Баба живет лаской, как гриб сыростью. Ей поди самой стыдно, а – что делать? Тело просит холи и – ничего боле…
Я спрашиваю, с напряжением глядя в его неуловимые глаза:
– Тебе – жалко ее?
– Мне-то? Мать она мне, что ли? Матерей не жалеют, а ты… чудак!
Он смеется негромко, разбитым бубенчиком.
Иногда я, глядя на него, как бы проваливаюсь в немую пустоту, в бездонную яму и сумрак.
– Вот все женятся, а ты, Яков, почему не женишься?
– А на што? Бабу я и так завсегда добуду, это, слава богу, просто… Женатому надо на месте жить, крестьянствовать, а у меня – земля плохая, да и мало ее, да и ту дядя отобрал. Воротился брательник из солдат, давай с дядей спорить, судиться, да – колом его по голове. Кровь пролил. Его за это – в острог на полтора года, а из острога – одна дорога, – опять в острог. А жена его утешная молодуха была… да что говорить! Женился – значит, сиди около своей конуры хозяином, а солдат – не хозяин своей жизни.
– Ты богу молишься?
– Ч-чудак! Конешно, молюсь…
– А как?
– Всяко.
– Ты какие молитвы читаешь?
– Молитвов я не знаю. Я, братец, просто: Господи Исусе, живого – помилуй, мертвого – упокой, спаси, Господи, от болезни… Ну, еще что-нибудь скажу…
– Что?
– А так! Ему – что ни скажи, все дойдет!
Он относится ко мне ласково, с любопытством, как к неглупому кутенку, который умеет делать забавные штуки. Бывало, сидишь с ним ночью, от него пахнет нефтью, гарью, луком, – он любил лук и грыз сырые луковицы, точно яблоки; вдруг он спросит:
– Ну-кася, Олеха, ероха-воха, скажи стишок!
Я знаю много стихов на память, кроме того, у меня есть толстая тетрадь, где записано любимое. Читаю ему «Руслана», он слушает неподвижно, слепой и немой, сдерживая хрипящее дыхание, потом говорит негромко:
– Утешная, складная сказочка! Сам, что ли, придумал? Пушкин? Есть такой барин Мухин-Пушкин, видал я его…
– Не тот, того давно убили!
– За што?
Я рассказываю теми краткими словами, как рассказывала мне Королева Марго. Яков слушает, потом спокойно говорит:
– Из-за баб очень достаточно пропадает народа…
Часто я передаю ему разные истории, вычитанные из книг; все они спутались, скипелись у меня в одну длиннейшую историю беспокойной, красивой жизни, насыщенной огненными страстями, полной безумных подвигов, пурпурового благородства, сказочных удач, дуэлей и смертей, благородных слов и подлых деяний. Рокамболь принимал у меня рыцарские черты Ля-Моля, Аннибала, Колонна; Людовик XI – черты отца Гранде; корнет Отлетаев сливается с Генрихом IV. Эта история, в которой я, по вдохновению, изменял характеры людей, перемещал события, была для меня миром, где я был свободен, подобно дедову богу, – он тоже играет всем, как хочет. Не мешая мне видеть действительность такою, какова она была, не охлаждая моего желания понимать живых людей, этот книжный хаос прикрывал меня прозрачным, но непроницаемым облаком от множества заразной грязи, от ядовитых отрав жизни.
Книги сделали меня неуязвимым для многого: зная, как любят и страдают, нельзя идти в публичный дом; копеечный развратишко возбуждал отвращение к нему и жалость к людям, которым он был сладок. Рокамболь учил меня быть стойким, не поддаваться силе обстоятельств, герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному, великому делу. Любимым героем моим был веселый король Генрих IV, мне казалось, что именно о нем говорит славная песня Беранже:
Он мужику дал много льгот
И выпить сам любил;
Да – если счастлив весь народ,
С чего бы царь не пил?
Романы рисовали Генриха IV добрым человеком, близким своему народу; ясный, как солнце, он внушал мне убеждение, что Франция – прекраснейшая страна всей земли, страна рыцарей, одинаково благородных в мантии короля и одежде крестьянина: Анис Питу такой же рыцарь, как и д’Артаньян. Когда Генриха убили, я угрюмо заплакал и заскрипел зубами от ненависти к Равальяку. Этот король почти всегда являлся главным героем моих рассказов кочегару, и мне казалось, что Яков тоже полюбил Францию и «Хенрика».
– Душу нельзя обидеть, душа обиды не принимает, – говорит он. – Души человеческой никак не коснешься, ничем…
Палубные пассажиры, матросы, все люди говорили о душе так же много и часто, как о земле, – работе, о хлебе и женщинах. Душа – десятое слово в речах простых людей, слово ходовое, как пятак. Мне не нравится, что слово это так прижилось на скользких языках людей, а когда мужики матерщинничают, злобно и ласково, поганя душу, – это бьет меня по сердцу.
Я очень помню, как осторожно говорила бабушка о душе, таинственном вместилище любви, красоты, радости, я верил, что после смерти хорошего человека белые ангелы относят душу его в голубое небо, к доброму богу моей бабушки, а он ласково встречает ее:
– Что, моя милая, что, моя чистая, – настрадалась, намаялась?
И дает душе серафимовы крылья – шесть белых крылий.
Яков Шумов говорит о душе так же осторожно, мало и неохотно, как говорила о ней бабушка. Ругаясь, он не задевал душу, а когда о ней рассуждали другие, молчал, согнув красную бычью шею. Когда я спрашиваю его – что такое душа? – он отвечает:
– Дух, дыхание божие…
Мне мало этого, я спрашиваю еще о чем-то, тогда кочегар, наклонив голову, говорит:
– О душе, браток, и попы мало понимают, это дело закрытое…
Он держит меня в постоянных думах о нем, в упорном напряжении понять его, но это напряжение безуспешно. Кроме него, я ничего не вижу, он все заслоняет от меня своей широкой фигурой.
Ко мне подозрительно ласково относится буфетчица, – утром я должен подавать ей умываться, хотя это обязанность второклассной горничной Луши, чистенькой и веселой девушки. Когда я стою в тесной каюте, около буфетчицы, по пояс голой, и вижу ее желтое тело, дряблое, как перекисшее тесто, вспоминается литое, смуглое тело Королевы Марго, и – мне противно. А буфетчица все говорит о чем-то, то жалобно и ворчливо, то сердито и насмешливо.
Смысл ее речей не доходит до меня, хотя я как бы издали догадываюсь о нем, – это жалкий, нищенский, стыдный смысл. Но я не возмущаюсь – я живу далеко от буфетчицы и ото всего, что делается на пароходе, я – за большим мохнатым камнем, он скрывает от меня весь этот мир, день и ночь плывущий куда-то.
– Совсем влюбилась в тебя наша Гавриловна, – как сквозь сон слышу я насмешливые слова Луши. – Разевай рот, лови счастье…
Не только она высмеивает меня, вся буфетная прислуга знает о слабости хозяйки, а повар говорит, морщась:
– Всего баба покушала – пирожного захотела, безе! Н-народ… Гляди, Пешков, в оба, а зри – в три…
И Яков тоже внушает мне отечески деловито:
– Конешно, ежели бы ты был лета на два старше, ну – я бы те сказал иначе как, а теперь, при твоих годах, – лучше, пожалуй, не сдавайся! А то – как хоть…
– Брось, – говорю я, – пакость это…
– Конешно…
Но тотчас же, пытаясь растрепать пальцами свалявшиеся волосы на голове, сеет свои кругленькие слова:
– Ну, тоже и ее дело надо понять, – это дело – скудное, дело зимнее… И собака любит, когда ее гладят, того боле – человек! Баба живет лаской, как гриб сыростью. Ей поди самой стыдно, а – что делать? Тело просит холи и – ничего боле…
Я спрашиваю, с напряжением глядя в его неуловимые глаза:
– Тебе – жалко ее?
– Мне-то? Мать она мне, что ли? Матерей не жалеют, а ты… чудак!
Он смеется негромко, разбитым бубенчиком.
Иногда я, глядя на него, как бы проваливаюсь в немую пустоту, в бездонную яму и сумрак.
– Вот все женятся, а ты, Яков, почему не женишься?
– А на што? Бабу я и так завсегда добуду, это, слава богу, просто… Женатому надо на месте жить, крестьянствовать, а у меня – земля плохая, да и мало ее, да и ту дядя отобрал. Воротился брательник из солдат, давай с дядей спорить, судиться, да – колом его по голове. Кровь пролил. Его за это – в острог на полтора года, а из острога – одна дорога, – опять в острог. А жена его утешная молодуха была… да что говорить! Женился – значит, сиди около своей конуры хозяином, а солдат – не хозяин своей жизни.
– Ты богу молишься?
– Ч-чудак! Конешно, молюсь…
– А как?
– Всяко.
– Ты какие молитвы читаешь?
– Молитвов я не знаю. Я, братец, просто: Господи Исусе, живого – помилуй, мертвого – упокой, спаси, Господи, от болезни… Ну, еще что-нибудь скажу…
– Что?
– А так! Ему – что ни скажи, все дойдет!
Он относится ко мне ласково, с любопытством, как к неглупому кутенку, который умеет делать забавные штуки. Бывало, сидишь с ним ночью, от него пахнет нефтью, гарью, луком, – он любил лук и грыз сырые луковицы, точно яблоки; вдруг он спросит:
– Ну-кася, Олеха, ероха-воха, скажи стишок!
Я знаю много стихов на память, кроме того, у меня есть толстая тетрадь, где записано любимое. Читаю ему «Руслана», он слушает неподвижно, слепой и немой, сдерживая хрипящее дыхание, потом говорит негромко:
– Утешная, складная сказочка! Сам, что ли, придумал? Пушкин? Есть такой барин Мухин-Пушкин, видал я его…
– Не тот, того давно убили!
– За што?
Я рассказываю теми краткими словами, как рассказывала мне Королева Марго. Яков слушает, потом спокойно говорит:
– Из-за баб очень достаточно пропадает народа…
Часто я передаю ему разные истории, вычитанные из книг; все они спутались, скипелись у меня в одну длиннейшую историю беспокойной, красивой жизни, насыщенной огненными страстями, полной безумных подвигов, пурпурового благородства, сказочных удач, дуэлей и смертей, благородных слов и подлых деяний. Рокамболь принимал у меня рыцарские черты Ля-Моля, Аннибала, Колонна; Людовик XI – черты отца Гранде; корнет Отлетаев сливается с Генрихом IV. Эта история, в которой я, по вдохновению, изменял характеры людей, перемещал события, была для меня миром, где я был свободен, подобно дедову богу, – он тоже играет всем, как хочет. Не мешая мне видеть действительность такою, какова она была, не охлаждая моего желания понимать живых людей, этот книжный хаос прикрывал меня прозрачным, но непроницаемым облаком от множества заразной грязи, от ядовитых отрав жизни.
Книги сделали меня неуязвимым для многого: зная, как любят и страдают, нельзя идти в публичный дом; копеечный развратишко возбуждал отвращение к нему и жалость к людям, которым он был сладок. Рокамболь учил меня быть стойким, не поддаваться силе обстоятельств, герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному, великому делу. Любимым героем моим был веселый король Генрих IV, мне казалось, что именно о нем говорит славная песня Беранже:
Он мужику дал много льгот
И выпить сам любил;
Да – если счастлив весь народ,
С чего бы царь не пил?
Романы рисовали Генриха IV добрым человеком, близким своему народу; ясный, как солнце, он внушал мне убеждение, что Франция – прекраснейшая страна всей земли, страна рыцарей, одинаково благородных в мантии короля и одежде крестьянина: Анис Питу такой же рыцарь, как и д’Артаньян. Когда Генриха убили, я угрюмо заплакал и заскрипел зубами от ненависти к Равальяку. Этот король почти всегда являлся главным героем моих рассказов кочегару, и мне казалось, что Яков тоже полюбил Францию и «Хенрика».