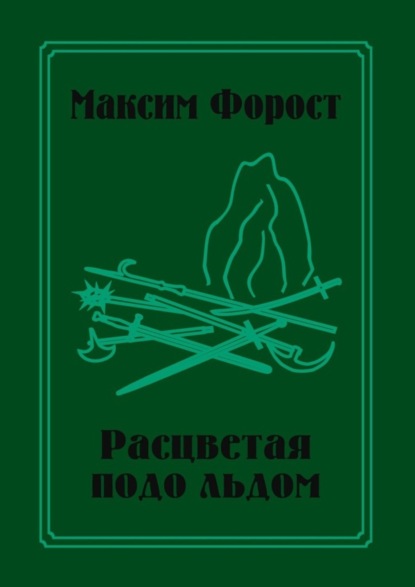По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Расцветая подо льдом
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Выбежал из избы к Сиверко. Закинул на него новое седло и кое-как закрепил. Схватил оголовье.
– Стой, не верти головой! – прикрикнул.
Сиверко уворачивался от удил и, вывернув шею, тянулся зубами к левому боку. Ременная подпруга нового седла была перекручена дважды и стёрла бы кожу на конском боку до кровавой раны. Как тогда ехать? Грач охнул. Сник и расседлал всё напрочь.
– Молодец, Сиверко. Молодец, что не дался. А я, дурак, опять не в себе! Прости меня.
Сиверко чуть слышно проголосил в ответ.
– Верно, не к добру это, – Грач согласился. – Нельзя впопыхах. Я по утру поеду.
Он поплёлся в горницу и понуро сел на пол – прямо у сундука. Привалился к нему боком и загрустил.
– Весь дом не унесёшь с собой. Всё равно, многое оставлю…
Он перегнулся через край сундука, стал искать. Где-то лежало здесь самое дорогое… Он взял это с собой в год, когда его изгоняли из посада. Взял на память. Ах, вот и нашёл! Грач потянул, и небесно-синее полотно взвилось туманом-облаком. Кушачок, чудесный платок его матери.
По рукам струилась легчайшая, неведомой природы ткань… Да полно – ткань ли это? Нитей здесь нет. Узор причудливый, золотой, будто огонь горит и трава вьётся. В маминых руках кушачок оживал. В его руках – нет, ни разу. Но стоило маме покрыться им да коснуться земли, как мама становилась птицей. Вилы рождаются в таких кушачках, как иные люди рождаются в сорочках. Вилы лелеют их пуще глаза, потому как, утратив, теряют с ними свой дар. А без него не летать им всласть по небу, не кружить над полями и реками.
Грач сберёг его. Сам-то не мог стать птицей, но всё же сберёг. Так хотелось порой улететь в облака. Грач вздохнул и сложил платок. Тончайшая ткань, много раз свёрнутая, уместилась на ладони. – «Вилам кушачок покажу – по-доброму встретят», – решил наконец.
Напоследок выискивая, не забыл ли чего, опять заглянул в сундук. Ну-ка… А что вот это такое… Из кушачка выкатилось? Грач поймал вещицу, извлёк её на свет и – обомлел. Дыхание перехватило.
«Ой-ё-ёй, мамочка… Это же мой Огнич…»
В руках у него оказалась маленькая восковая свечка. Небольшой столбик воска, украшенный по бокам причудливыми зверями и травами. Оплавленный верх, обгрызенный низ… Любимая детская игрушка.
«Мама моя! Как он попал сюда?» – Грач давно позабыл о нём. Думал, пропал, потерялся, истаял лет пятнадцать назад… Грач заёрзал, поднялся на колени, держа игрушку перед собой. Так и есть – это Огнич! Неужто притащил его шесть лет назад с другими вещами да бросил в сундук незамеченным? – «Ведь это же Огнич, мой Огнич…» – Грач снова сел на пол. Встреченное детство было таким живым и осязаемым, что слёзы на глаза навернулись…
…Он не помнил, когда появилась эта свеча. Не помнил, кто подарил её и как. Мама говорила, будто первое, что он сделал, это сунул свечку в рот и обгрыз ей конец. А после не расставался с ней. Всюду таскал её, играл с ней и даже спал, прижав её щекой к подушке. Так было до того дня, когда с предательскими слезами он вдруг решил, что вырос и детский друг ему больше не нужен. Так он забросил её. Отрёкся. Потерял и лишь иногда с чувством вины вспоминал, как кого-то преданного.
Мама рассказала ему, что в каждой свече живёт добрый дух – Огонёк, сын Солнышка. Так и стала свеча Огничем. С Огничем он делился тайнами, обидами, радостями.
– О-о-огнич, – провыл, дивясь самому себе, Грач. – Ведь я же обещал, я же клялся стать счастливее, чем есть. А вот предал тебя, бросил, потерял – и сам как и ты стал никому не нужен и всеми позаброшен…
Почему-то вдруг затряслись губы, и откуда-то из глубины легких, через гортань, сотрясая его частыми уродливыми судорогами, прорвались рыдания – горькие, сокрушённые, страстные. Слёзы лились по щекам, он не сдерживал их, дав им струиться по лицу и капать на пол.
– О-огнич! Дорогой мой О-огнич, прости меня! Я мерзок и отвратителен, я приносил другим зло. Я проклят, и я – изгой!
Хриплым баском он выл сам себе в голос, плюясь при этом и фыркая, как бывает, когда редко и в одиночку плачет мужчина.
– Я стал другим, понимаешь? Ты всё такой же – добрый и тёплый. А я – негодяй и убийца. Я просто так, от нечего делать, загубил три жизни. Ты прости меня… – он подавился плачем, судорога помешала вдохнуть. Задыхаясь, он размазал ладонью по лицу слёзы.
Он повалился на спину и долго ещё сотрясался всем животом и грудью, потом обмяк. Он молил Огнича вернуться к нему и более не бросать его. Молил помочь – хотя бы в слезах и в раскаянии. Потом судорожно, как в детстве, вздохнул всеми легкими и сел. Слёзы иссякли.
Когда-то, когда он был ещё добр и чист и радовался небу, он зажигал свечу и видел в огоньке пляшущую зелёную ящерку. «Это Саламандра, – говорила мама, – добрый дух света и огня».
Ещё до конца не веря, Грач поднял огниво и высек огонь. Зажёг свечу и поднес её близко к глазам.
Из пламени глядела на него умная и ласковая мордочка. Длинное изумрудное тельце, шустренький хвостик. Ящерка.
– Привет!
Пляшущая в огне Саламандра оказалось точно такой же, какой он видел её в детстве.
– Привет, – произнёс Грач. – Так это правда?
Он поднялся на колени, потом встал, держа свечу перед собой.
– Ты изменился. Ты повзрослел, – заметила Саламандра.
Грач бережно поставил свечу на стол. Отступил на шаг. Видение не исчезло.
– Я-то помню тебя ребёнком, – Саламандра приплясывала на пламенеющем фитильке, взбегала по нему, обвивала его хвостиком. – Ты играл со мной, хотя я и старше тебя! С детьми легче, они искренни и доверчивы. Вот, были бы у тебя свои, мне было бы легче воспитывать их, чем тебя!
– Да ну, – Грач смущёно опустил глаза. – Я, правда, любил одну…
– Что же – это так быстро прошло? – по-птичьи прощебетала Саламандра.
– Долго говорить… Да ты, пожалуй, и так всё знаешь. Про Руну и про меня.
– Всё же попробуй… Дерзай, мой друг, дерзай! – Саламандра подбодрила.
Грач помолчал, не зная, с чего начать. Решился:
– Не друг для друга мы с Руной живём, – выговорил он. – Только и всего. Я был глуп и связывал с ней свои надежды, а они вдруг – хлоп! – куда-то пропали. Вот, спрашивается, зачем мне было мечтать о ней? Поверь, я вправду был готов перемениться, едва она позовёт меня. Может быть, я и сейчас мечтаю – хоть знаю, что ничего уже не будет. Да я изначально знал, что так случится! Мои беды – они со мною, они во мне. Понимаешь?
Вот, вспоминаю детство и не помню безмятежности. Маму помню, как она со мной мыкалась. Отец еле помнится – его увели на войну. Вот помню его сапоги, а выше я и не доставал… Мама к вилам не вернулась, так здесь и осталась. Как ей уйти – за столько вёрст с ребёнком? О! В землях вил есть сады, чудо-деревья, плоды, брызжущие соком! А у нас? Мы коневоды, у нас стойла и выгоны. А она вила, она близко к коню не подойдет. У нас в доме и овцы-то не было.
Помню – хромой сосед дрова нам рубил. А ещё изредка женщины помогали, да больше всех – Власта. Она-то и взяла меня к себе, она маме подругой. Тоже одна, без мужа, с дочерью. Со мной тяжело было, я видел, потому только подрос вернулся в дом отца. Я-то считался ведьмёныш, потому как – вилин сын. Я дрался. Путьша Кривонос бил меня, а Златовид – его.
Златовида с пелёнок знал. Настырный такой, нагловатый. Себя за вожака держал. Пацан к пацану – нас уже тогда целая ватага была. Мы-то как бешеные были. Кто без отца, кто без матери. Нам до жути радостно было, что где-то война – далеко, за Степью, но ведь война! Рассыпалось Братство. Развелись конокрады, на реках – ушкуйники. Удали нам хотелось, вольницы! Мы в ту пору как не в себе были.
Мы уходили в луга, в ночное. Там было старое тырло, укрытие для коней, в нём мы и обретались. А чуть стемнеет, хватали коней, с головой накрывались плащами – белыми и с дырками для глаз – да неслись по улицам. Боялись нас, аж окна запирали, а нам и сладостно. Коней крали – покататься, загнать до пенного пота и бросить. Кто не по нраву, того избить могли, подворье сжечь. Девок ловили. С нами люди не связывались – лишней мороки боялись.
У Злата с языка Чаика не сходила. Знаешь ли о ней, Огнич? Чаика… Ладисова невеста. Вот уж не кстати Ладис тогда подвернулся… Путьша возьми да и брякни: «Далась она тебе, что ли, достал уже всех своей Чаикой». А Златка аж завёлся: – «Далась, далась! Спорим, что даст», – а мне и говорит: – «Приведи сюда Чаику. Ладису насолить хочешь? Вот и приведи мне Чаику».
У Ладиса сестрёнка была, Снежка, нам ровесница… Нравилась мне… Ладис поймал меня, когда я к Снежке в окно забирался. Ушей не надрал – пообещал только, а я обиду затаил. Дурной я был, злой. Теперь-то и лица Снежкиного не вспомню… Так вот, это я Чаику к Златовиду вызвал. Сказал, приходи на старое тырло, весточка есть от Ладиса. Она удивилась, а пошла. Не было меня с ними. Что было там, я не знаю. Только… Вина на мне, Огнич. Утопилась она. Из-за меня, из-за моей досады на Ладиса, утопилась.
Ладис как помешанный сделался. «Убью, – говорит, – и Злата, и всю его ватажку». Он и не таких бил. Тоже – голова горячая. Ратник! Один на всех вышел. Наши встретили его ночью и забили до смерти. Долго, говорят, били, жестоко – звери мы были, зверёныши. Баба, которая труп по утру нашла, чувства лишилась. А меня в ту ночь не было. Я нашу базу стерёг на старом тырле. Балахоны стерёг, плащи с дырками для глаз. Вот и не предупредил Ладиса. Побоялся: трусил ему на глаза показаться. Выходит, опять мой грех?
А по утру побежал к Снежке. Утешить её, как мне думалось. «Не бойся, – шепчу, – всё забудь, успокойся». Она плачет и льнёт ко мне – к плечу, к груди льнёт. У неё же не осталась никого, а тут я – как будто бы свой, наполовину к беде непричастный. Она плачет, и у неё ноги подкашиваются. Когда горе, тогда как на грех любить хочется. Ей после меня в спину кричали с плевками: «Братоубийца!» – сам это слышал! Потому как она со мною, с убийцей брата спуталась.
Не сберёг я её. Оставил по глупости. На день или на два позабыл о ней – только и всего. Она и пропала. Сгинула. Говорят, за Брынские леса ушла к отшельницам, а может, и утонула, как Чаика, или умом тронулась. Ни следа, ни вестей. Опять, получается, мой грех? Третья душа на мне.
Златовид со всей ватагой сбежал. «Всё, – заявил, – за ум берусь. Еду к старому Нилу учиться». Тогда все за ним и съехали, а уж куда попали, не ведаю. То ли в ратники, то ли в ушкуйники. Я остался. До конца не виновен, но кругом виноват. Судили меня. На сходе всем миром порешили: от общины меня отлучить, отцов дом отобрать, меня выселить… «Изгой» это называется. «Отщепенец».
Хутор этот – не хутор вовсе. Так… Заимку отец строил, выселки. Так и не достроил. Мне досталось. А Грач – это кличка за чёрные волосы. От отца – достались выселки, от матери – чёрные волосы. Так и зовут меня: Грач с лесного хутора…
– Стой, не верти головой! – прикрикнул.
Сиверко уворачивался от удил и, вывернув шею, тянулся зубами к левому боку. Ременная подпруга нового седла была перекручена дважды и стёрла бы кожу на конском боку до кровавой раны. Как тогда ехать? Грач охнул. Сник и расседлал всё напрочь.
– Молодец, Сиверко. Молодец, что не дался. А я, дурак, опять не в себе! Прости меня.
Сиверко чуть слышно проголосил в ответ.
– Верно, не к добру это, – Грач согласился. – Нельзя впопыхах. Я по утру поеду.
Он поплёлся в горницу и понуро сел на пол – прямо у сундука. Привалился к нему боком и загрустил.
– Весь дом не унесёшь с собой. Всё равно, многое оставлю…
Он перегнулся через край сундука, стал искать. Где-то лежало здесь самое дорогое… Он взял это с собой в год, когда его изгоняли из посада. Взял на память. Ах, вот и нашёл! Грач потянул, и небесно-синее полотно взвилось туманом-облаком. Кушачок, чудесный платок его матери.
По рукам струилась легчайшая, неведомой природы ткань… Да полно – ткань ли это? Нитей здесь нет. Узор причудливый, золотой, будто огонь горит и трава вьётся. В маминых руках кушачок оживал. В его руках – нет, ни разу. Но стоило маме покрыться им да коснуться земли, как мама становилась птицей. Вилы рождаются в таких кушачках, как иные люди рождаются в сорочках. Вилы лелеют их пуще глаза, потому как, утратив, теряют с ними свой дар. А без него не летать им всласть по небу, не кружить над полями и реками.
Грач сберёг его. Сам-то не мог стать птицей, но всё же сберёг. Так хотелось порой улететь в облака. Грач вздохнул и сложил платок. Тончайшая ткань, много раз свёрнутая, уместилась на ладони. – «Вилам кушачок покажу – по-доброму встретят», – решил наконец.
Напоследок выискивая, не забыл ли чего, опять заглянул в сундук. Ну-ка… А что вот это такое… Из кушачка выкатилось? Грач поймал вещицу, извлёк её на свет и – обомлел. Дыхание перехватило.
«Ой-ё-ёй, мамочка… Это же мой Огнич…»
В руках у него оказалась маленькая восковая свечка. Небольшой столбик воска, украшенный по бокам причудливыми зверями и травами. Оплавленный верх, обгрызенный низ… Любимая детская игрушка.
«Мама моя! Как он попал сюда?» – Грач давно позабыл о нём. Думал, пропал, потерялся, истаял лет пятнадцать назад… Грач заёрзал, поднялся на колени, держа игрушку перед собой. Так и есть – это Огнич! Неужто притащил его шесть лет назад с другими вещами да бросил в сундук незамеченным? – «Ведь это же Огнич, мой Огнич…» – Грач снова сел на пол. Встреченное детство было таким живым и осязаемым, что слёзы на глаза навернулись…
…Он не помнил, когда появилась эта свеча. Не помнил, кто подарил её и как. Мама говорила, будто первое, что он сделал, это сунул свечку в рот и обгрыз ей конец. А после не расставался с ней. Всюду таскал её, играл с ней и даже спал, прижав её щекой к подушке. Так было до того дня, когда с предательскими слезами он вдруг решил, что вырос и детский друг ему больше не нужен. Так он забросил её. Отрёкся. Потерял и лишь иногда с чувством вины вспоминал, как кого-то преданного.
Мама рассказала ему, что в каждой свече живёт добрый дух – Огонёк, сын Солнышка. Так и стала свеча Огничем. С Огничем он делился тайнами, обидами, радостями.
– О-о-огнич, – провыл, дивясь самому себе, Грач. – Ведь я же обещал, я же клялся стать счастливее, чем есть. А вот предал тебя, бросил, потерял – и сам как и ты стал никому не нужен и всеми позаброшен…
Почему-то вдруг затряслись губы, и откуда-то из глубины легких, через гортань, сотрясая его частыми уродливыми судорогами, прорвались рыдания – горькие, сокрушённые, страстные. Слёзы лились по щекам, он не сдерживал их, дав им струиться по лицу и капать на пол.
– О-огнич! Дорогой мой О-огнич, прости меня! Я мерзок и отвратителен, я приносил другим зло. Я проклят, и я – изгой!
Хриплым баском он выл сам себе в голос, плюясь при этом и фыркая, как бывает, когда редко и в одиночку плачет мужчина.
– Я стал другим, понимаешь? Ты всё такой же – добрый и тёплый. А я – негодяй и убийца. Я просто так, от нечего делать, загубил три жизни. Ты прости меня… – он подавился плачем, судорога помешала вдохнуть. Задыхаясь, он размазал ладонью по лицу слёзы.
Он повалился на спину и долго ещё сотрясался всем животом и грудью, потом обмяк. Он молил Огнича вернуться к нему и более не бросать его. Молил помочь – хотя бы в слезах и в раскаянии. Потом судорожно, как в детстве, вздохнул всеми легкими и сел. Слёзы иссякли.
Когда-то, когда он был ещё добр и чист и радовался небу, он зажигал свечу и видел в огоньке пляшущую зелёную ящерку. «Это Саламандра, – говорила мама, – добрый дух света и огня».
Ещё до конца не веря, Грач поднял огниво и высек огонь. Зажёг свечу и поднес её близко к глазам.
Из пламени глядела на него умная и ласковая мордочка. Длинное изумрудное тельце, шустренький хвостик. Ящерка.
– Привет!
Пляшущая в огне Саламандра оказалось точно такой же, какой он видел её в детстве.
– Привет, – произнёс Грач. – Так это правда?
Он поднялся на колени, потом встал, держа свечу перед собой.
– Ты изменился. Ты повзрослел, – заметила Саламандра.
Грач бережно поставил свечу на стол. Отступил на шаг. Видение не исчезло.
– Я-то помню тебя ребёнком, – Саламандра приплясывала на пламенеющем фитильке, взбегала по нему, обвивала его хвостиком. – Ты играл со мной, хотя я и старше тебя! С детьми легче, они искренни и доверчивы. Вот, были бы у тебя свои, мне было бы легче воспитывать их, чем тебя!
– Да ну, – Грач смущёно опустил глаза. – Я, правда, любил одну…
– Что же – это так быстро прошло? – по-птичьи прощебетала Саламандра.
– Долго говорить… Да ты, пожалуй, и так всё знаешь. Про Руну и про меня.
– Всё же попробуй… Дерзай, мой друг, дерзай! – Саламандра подбодрила.
Грач помолчал, не зная, с чего начать. Решился:
– Не друг для друга мы с Руной живём, – выговорил он. – Только и всего. Я был глуп и связывал с ней свои надежды, а они вдруг – хлоп! – куда-то пропали. Вот, спрашивается, зачем мне было мечтать о ней? Поверь, я вправду был готов перемениться, едва она позовёт меня. Может быть, я и сейчас мечтаю – хоть знаю, что ничего уже не будет. Да я изначально знал, что так случится! Мои беды – они со мною, они во мне. Понимаешь?
Вот, вспоминаю детство и не помню безмятежности. Маму помню, как она со мной мыкалась. Отец еле помнится – его увели на войну. Вот помню его сапоги, а выше я и не доставал… Мама к вилам не вернулась, так здесь и осталась. Как ей уйти – за столько вёрст с ребёнком? О! В землях вил есть сады, чудо-деревья, плоды, брызжущие соком! А у нас? Мы коневоды, у нас стойла и выгоны. А она вила, она близко к коню не подойдет. У нас в доме и овцы-то не было.
Помню – хромой сосед дрова нам рубил. А ещё изредка женщины помогали, да больше всех – Власта. Она-то и взяла меня к себе, она маме подругой. Тоже одна, без мужа, с дочерью. Со мной тяжело было, я видел, потому только подрос вернулся в дом отца. Я-то считался ведьмёныш, потому как – вилин сын. Я дрался. Путьша Кривонос бил меня, а Златовид – его.
Златовида с пелёнок знал. Настырный такой, нагловатый. Себя за вожака держал. Пацан к пацану – нас уже тогда целая ватага была. Мы-то как бешеные были. Кто без отца, кто без матери. Нам до жути радостно было, что где-то война – далеко, за Степью, но ведь война! Рассыпалось Братство. Развелись конокрады, на реках – ушкуйники. Удали нам хотелось, вольницы! Мы в ту пору как не в себе были.
Мы уходили в луга, в ночное. Там было старое тырло, укрытие для коней, в нём мы и обретались. А чуть стемнеет, хватали коней, с головой накрывались плащами – белыми и с дырками для глаз – да неслись по улицам. Боялись нас, аж окна запирали, а нам и сладостно. Коней крали – покататься, загнать до пенного пота и бросить. Кто не по нраву, того избить могли, подворье сжечь. Девок ловили. С нами люди не связывались – лишней мороки боялись.
У Злата с языка Чаика не сходила. Знаешь ли о ней, Огнич? Чаика… Ладисова невеста. Вот уж не кстати Ладис тогда подвернулся… Путьша возьми да и брякни: «Далась она тебе, что ли, достал уже всех своей Чаикой». А Златка аж завёлся: – «Далась, далась! Спорим, что даст», – а мне и говорит: – «Приведи сюда Чаику. Ладису насолить хочешь? Вот и приведи мне Чаику».
У Ладиса сестрёнка была, Снежка, нам ровесница… Нравилась мне… Ладис поймал меня, когда я к Снежке в окно забирался. Ушей не надрал – пообещал только, а я обиду затаил. Дурной я был, злой. Теперь-то и лица Снежкиного не вспомню… Так вот, это я Чаику к Златовиду вызвал. Сказал, приходи на старое тырло, весточка есть от Ладиса. Она удивилась, а пошла. Не было меня с ними. Что было там, я не знаю. Только… Вина на мне, Огнич. Утопилась она. Из-за меня, из-за моей досады на Ладиса, утопилась.
Ладис как помешанный сделался. «Убью, – говорит, – и Злата, и всю его ватажку». Он и не таких бил. Тоже – голова горячая. Ратник! Один на всех вышел. Наши встретили его ночью и забили до смерти. Долго, говорят, били, жестоко – звери мы были, зверёныши. Баба, которая труп по утру нашла, чувства лишилась. А меня в ту ночь не было. Я нашу базу стерёг на старом тырле. Балахоны стерёг, плащи с дырками для глаз. Вот и не предупредил Ладиса. Побоялся: трусил ему на глаза показаться. Выходит, опять мой грех?
А по утру побежал к Снежке. Утешить её, как мне думалось. «Не бойся, – шепчу, – всё забудь, успокойся». Она плачет и льнёт ко мне – к плечу, к груди льнёт. У неё же не осталась никого, а тут я – как будто бы свой, наполовину к беде непричастный. Она плачет, и у неё ноги подкашиваются. Когда горе, тогда как на грех любить хочется. Ей после меня в спину кричали с плевками: «Братоубийца!» – сам это слышал! Потому как она со мною, с убийцей брата спуталась.
Не сберёг я её. Оставил по глупости. На день или на два позабыл о ней – только и всего. Она и пропала. Сгинула. Говорят, за Брынские леса ушла к отшельницам, а может, и утонула, как Чаика, или умом тронулась. Ни следа, ни вестей. Опять, получается, мой грех? Третья душа на мне.
Златовид со всей ватагой сбежал. «Всё, – заявил, – за ум берусь. Еду к старому Нилу учиться». Тогда все за ним и съехали, а уж куда попали, не ведаю. То ли в ратники, то ли в ушкуйники. Я остался. До конца не виновен, но кругом виноват. Судили меня. На сходе всем миром порешили: от общины меня отлучить, отцов дом отобрать, меня выселить… «Изгой» это называется. «Отщепенец».
Хутор этот – не хутор вовсе. Так… Заимку отец строил, выселки. Так и не достроил. Мне досталось. А Грач – это кличка за чёрные волосы. От отца – достались выселки, от матери – чёрные волосы. Так и зовут меня: Грач с лесного хутора…