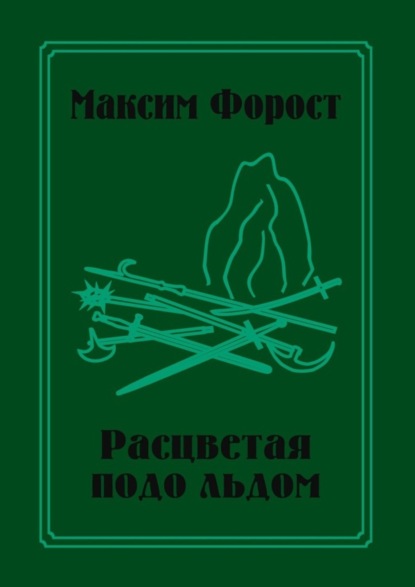По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Расцветая подо льдом
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зови весну, зови!
С весною гости к нам спешат:
Тревога, жар, тоска,
Сомненье, стыд и робкий взгляд —
О как любовь сладка!
О как любовь сладка!
Радим с Купавой будто мир
Собрались известить,
Раз в их крови любовь горит —
Зачем её таить?
Зачем её таить?
– Тихо! – всполошилась третья. – Грач идёт!
– А нам-то что? – тихо проговорила Забава. – Мы просто поём… – она уставилась на темноволосого коневода, подошедшего к кузнице с конём в поводу. – «Любовь во взглядах и словах. Уж назван свадьбы час…» – она осторожно промурлыкала.
– Не пой! – её шёпотом оборвали. – Не пой при нём.
– С чего это? – она заупрямилась.
– Не пой и всё. Он – изгой. При нём это не поют. Он как Радим, понятно?
Три пары любопытных глаз одновременно уставились на пришельца. Грач это почувствовал. Он вдруг втянул голову в плечи и ссутулился. Всей спиной, всей кожей и чёрными – не как у людей – волосами он ощутил, что его разглядывают. Утром, выходя из дому, он загадывал, чтобы в кузнице в этот час никого не оказалось – чтоб ни единой души. Как назло, двор полон народу.
Деловитый говор застыл и тотчас возобновился. Так повелось в посадах и в сёлах, что своих приветствуют, не прекращая разговора, а чужих разглядывают, немедленно замолчав. Хуже, когда не замечают. Грач силился сохранить невозмутимость. Закинул узду на свободную коновязь, заглянул в темноту кузницы. Коневод расплачивался с кузнецом – мельком глянул на Грача, поспешно отвёл глаза и скоро вышел. Грач подождал, но при нём никто не входил в кузницу.
– Бравлин, – позвал он.
Крепкий мужик лет тридцати пяти с волосами соломенного цвета поднял голову:
– А, Цветослав! – запарившийся кузнец обнажил зубы. – Сиверко привёл?
– Сиверко, – Цветослав-Грач заулыбался.
Он завёл жеребчика в станок, потрепал по холке, чтобы не нервничал.
– Ну, как – снег не растаял? – в посаде это сделалось любимой шуткой.
Грач усмехнулся.
– Вот я и думаю: пролежит снег до осени, – Бравлин басил, выбирая инструменты, – а там уж и новый выпадет!
– Зимою не занесёт, так весной затопит, – подыграл Грач.
Кузнец выбрал похожую на зубило обсечку, поднял у Сиверко копыто и резкими движениями отогнул барашки – кончики подковных гвоздей. Удалив гвозди, он снял подкову, осмотрел и погладил рукой копыто, немного потёр рашпилем.
– Молодец, – похвалил Грача, – не запускаешь. А общинных коней редко перековывают. Подошвы так зарастают, что копытный рог хоть клещами откусывай.
– Я стара-аюсь, – протянул Грач и опять ласково похлопал Сиверко.
– Хорошеет жеребчик. Сколько ему уже? – Бравлин взялся за другое копыто.
– Он четырёхлеток.
– О-о-о, боевой жеребец! А ведь его отбраковали, старшему конюшему не понравился окрас. Окрас у него не ценный, – Бравлин поворошил конскую шерсть на боку. – Разве ж это масть? Одна волосинка рыжая, другая – чёрная!
Кузнец разогнулся и отступил в дальний угол к наковальне. Там долго и молча бил, меняя инструменты и подгоняя подковы. После сунул их одну за другой в снег – тот зашипел и изошёл паром.
– Одна волосинка седая, другая – бурая! – понравилось кузнецу. – Сплошная сивка-бурка смесь с кауркой.
Выбрав молоток, кузнец примерился и несколькими косыми ударами вогнал гвозди так, что концы вышли из стенок копыта.
– Глаз – алмаз! – похвалил сам себя. – Правду скажу, Цветослав: я ни одной лошади не заковал.
– Ещё бы! – поддержал Грач.
Заковка – это болезненная для лошади рана. Это когда гвоздь протыкает копытный рог и вонзается в ногу.
– Угу, и засечек не стало, – кузнец загибал кончики гвоздей барашками. – Отучал его, или конь сам отвык?
– Отучал, – Грач был немногословен.
Случается, при дурно поставленном шаге молодая лошадь сама себе ранит ноги подковами или торчащими барашками. Это и называют засечкой.
– Ну, и молодец, всё готово! – Бравлин отложил молоток.
– Сколько с меня?
Бравлин ничего с Грача не брал, но снабжал его заработком. Кузнец загремел полным мешком котелков и чайников:
– Кое-что из утвари. Кому подлудить, кому подлатать. Ещё уздечку заказали. Для важного человека, для конюшего. Уважь меня, поторопись! В неделю осилишь?
Грач пообещал и, простившись, вывел вон Сиверко. Прищурился от искрящего снега. Навьючиваться на виду у всех не хотелось, он вывел жеребчика за ворота – и тут же расстроился.
Девчонки смолкли и уставились на него. Прямо клеймо какое-то: его чёрные волосы. Это чтобы не перепутали, чтобы знали – вот он, тот самый, с хутора, изгнанный, Грач. Так и имя своё позабудешь – кличка приросла. Чего уставились?
Девицы зашептались и прыснули. Одна, что с волосами поярче, зазывно заулыбалась. Сквозь хихиканье он расслышал: «Забава, может, уговорим его…» – «Прекрати… одну он уже уговорил».
Грач вскипел. Сощурив глаза и стиснув зубы, он затягивал последний узел у громыхающего вьюка.
«Трещат, о чём сами не знают. Они малолетками были, когда это случилось», – он вскочил в седло, хотел промчаться перед их носами, разбрызгивая снег копытами, но вместо этого лишь пробормотал «ходь-ходь» и тихонько пустил жеребчика мелкой рысцой.
Лишь когда выехал за околицу, погнал Сиверко вналёт. Раздражение и досада вырвались наружу.
«Ненавижу!» – сорвался он на самого себя. Вот и по ночам снится, будто стоит он голый посреди избы, полной народу, а все делают вид, что ничего не замечают, что всё в порядке, что ничего страшного. – «Ох, ненавижу!» – говорят, это снится слабакам или же снится от чувства вины – огромной, неисправимой. Вину-то он за собой знает.
– Да пошёл же ты! – Грач изо всей силы стегнул жеребца плетью.
Сиверко вздрогнул от неожиданной боли и помчался быстрее. Утоптанный снег выбрызгивал из-под копыт. Дорога бежала вдоль леса. Слева проносились зелёные деревья, меж них мелькало солнце. Встречный ветер охватил Грача и скоро развеял остаток раздражения.
С весною гости к нам спешат:
Тревога, жар, тоска,
Сомненье, стыд и робкий взгляд —
О как любовь сладка!
О как любовь сладка!
Радим с Купавой будто мир
Собрались известить,
Раз в их крови любовь горит —
Зачем её таить?
Зачем её таить?
– Тихо! – всполошилась третья. – Грач идёт!
– А нам-то что? – тихо проговорила Забава. – Мы просто поём… – она уставилась на темноволосого коневода, подошедшего к кузнице с конём в поводу. – «Любовь во взглядах и словах. Уж назван свадьбы час…» – она осторожно промурлыкала.
– Не пой! – её шёпотом оборвали. – Не пой при нём.
– С чего это? – она заупрямилась.
– Не пой и всё. Он – изгой. При нём это не поют. Он как Радим, понятно?
Три пары любопытных глаз одновременно уставились на пришельца. Грач это почувствовал. Он вдруг втянул голову в плечи и ссутулился. Всей спиной, всей кожей и чёрными – не как у людей – волосами он ощутил, что его разглядывают. Утром, выходя из дому, он загадывал, чтобы в кузнице в этот час никого не оказалось – чтоб ни единой души. Как назло, двор полон народу.
Деловитый говор застыл и тотчас возобновился. Так повелось в посадах и в сёлах, что своих приветствуют, не прекращая разговора, а чужих разглядывают, немедленно замолчав. Хуже, когда не замечают. Грач силился сохранить невозмутимость. Закинул узду на свободную коновязь, заглянул в темноту кузницы. Коневод расплачивался с кузнецом – мельком глянул на Грача, поспешно отвёл глаза и скоро вышел. Грач подождал, но при нём никто не входил в кузницу.
– Бравлин, – позвал он.
Крепкий мужик лет тридцати пяти с волосами соломенного цвета поднял голову:
– А, Цветослав! – запарившийся кузнец обнажил зубы. – Сиверко привёл?
– Сиверко, – Цветослав-Грач заулыбался.
Он завёл жеребчика в станок, потрепал по холке, чтобы не нервничал.
– Ну, как – снег не растаял? – в посаде это сделалось любимой шуткой.
Грач усмехнулся.
– Вот я и думаю: пролежит снег до осени, – Бравлин басил, выбирая инструменты, – а там уж и новый выпадет!
– Зимою не занесёт, так весной затопит, – подыграл Грач.
Кузнец выбрал похожую на зубило обсечку, поднял у Сиверко копыто и резкими движениями отогнул барашки – кончики подковных гвоздей. Удалив гвозди, он снял подкову, осмотрел и погладил рукой копыто, немного потёр рашпилем.
– Молодец, – похвалил Грача, – не запускаешь. А общинных коней редко перековывают. Подошвы так зарастают, что копытный рог хоть клещами откусывай.
– Я стара-аюсь, – протянул Грач и опять ласково похлопал Сиверко.
– Хорошеет жеребчик. Сколько ему уже? – Бравлин взялся за другое копыто.
– Он четырёхлеток.
– О-о-о, боевой жеребец! А ведь его отбраковали, старшему конюшему не понравился окрас. Окрас у него не ценный, – Бравлин поворошил конскую шерсть на боку. – Разве ж это масть? Одна волосинка рыжая, другая – чёрная!
Кузнец разогнулся и отступил в дальний угол к наковальне. Там долго и молча бил, меняя инструменты и подгоняя подковы. После сунул их одну за другой в снег – тот зашипел и изошёл паром.
– Одна волосинка седая, другая – бурая! – понравилось кузнецу. – Сплошная сивка-бурка смесь с кауркой.
Выбрав молоток, кузнец примерился и несколькими косыми ударами вогнал гвозди так, что концы вышли из стенок копыта.
– Глаз – алмаз! – похвалил сам себя. – Правду скажу, Цветослав: я ни одной лошади не заковал.
– Ещё бы! – поддержал Грач.
Заковка – это болезненная для лошади рана. Это когда гвоздь протыкает копытный рог и вонзается в ногу.
– Угу, и засечек не стало, – кузнец загибал кончики гвоздей барашками. – Отучал его, или конь сам отвык?
– Отучал, – Грач был немногословен.
Случается, при дурно поставленном шаге молодая лошадь сама себе ранит ноги подковами или торчащими барашками. Это и называют засечкой.
– Ну, и молодец, всё готово! – Бравлин отложил молоток.
– Сколько с меня?
Бравлин ничего с Грача не брал, но снабжал его заработком. Кузнец загремел полным мешком котелков и чайников:
– Кое-что из утвари. Кому подлудить, кому подлатать. Ещё уздечку заказали. Для важного человека, для конюшего. Уважь меня, поторопись! В неделю осилишь?
Грач пообещал и, простившись, вывел вон Сиверко. Прищурился от искрящего снега. Навьючиваться на виду у всех не хотелось, он вывел жеребчика за ворота – и тут же расстроился.
Девчонки смолкли и уставились на него. Прямо клеймо какое-то: его чёрные волосы. Это чтобы не перепутали, чтобы знали – вот он, тот самый, с хутора, изгнанный, Грач. Так и имя своё позабудешь – кличка приросла. Чего уставились?
Девицы зашептались и прыснули. Одна, что с волосами поярче, зазывно заулыбалась. Сквозь хихиканье он расслышал: «Забава, может, уговорим его…» – «Прекрати… одну он уже уговорил».
Грач вскипел. Сощурив глаза и стиснув зубы, он затягивал последний узел у громыхающего вьюка.
«Трещат, о чём сами не знают. Они малолетками были, когда это случилось», – он вскочил в седло, хотел промчаться перед их носами, разбрызгивая снег копытами, но вместо этого лишь пробормотал «ходь-ходь» и тихонько пустил жеребчика мелкой рысцой.
Лишь когда выехал за околицу, погнал Сиверко вналёт. Раздражение и досада вырвались наружу.
«Ненавижу!» – сорвался он на самого себя. Вот и по ночам снится, будто стоит он голый посреди избы, полной народу, а все делают вид, что ничего не замечают, что всё в порядке, что ничего страшного. – «Ох, ненавижу!» – говорят, это снится слабакам или же снится от чувства вины – огромной, неисправимой. Вину-то он за собой знает.
– Да пошёл же ты! – Грач изо всей силы стегнул жеребца плетью.
Сиверко вздрогнул от неожиданной боли и помчался быстрее. Утоптанный снег выбрызгивал из-под копыт. Дорога бежала вдоль леса. Слева проносились зелёные деревья, меж них мелькало солнце. Встречный ветер охватил Грача и скоро развеял остаток раздражения.