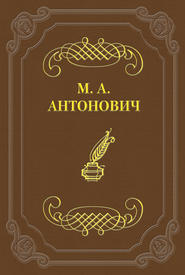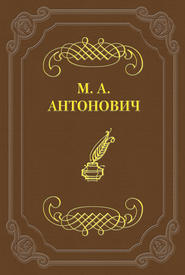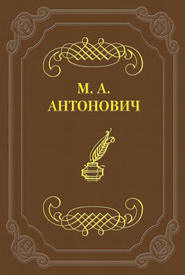По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Новые материалы для биографии и характеристики Белинского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Максим Алексеевич Антонович
«Белинский имеет такое важное значение в истории русской литературы, и мы все-таки так мало знаем о нем, что всякое новое сведение о нем составляет приятное приобретение для истории нашей литературы и заслугу со стороны сообщающего его. Понятно, поэтому, с каким нетерпением со стороны заинтересованных этим делом людей ожидалось давно и так торжественно предвозвещенное «Вестником Европы» появление воспоминаний г. Тургенева о Белинском…»
Максим Алексеевич Антонович
Новые материалы для биографии и характеристики Белинского
Белинский имеет такое важное значение в истории русской литературы, и мы все-таки так мало знаем о нем, что всякое новое сведение о нем составляет приятное приобретение для истории нашей литературы и заслугу со стороны сообщающего его. Понятно, поэтому, с каким нетерпением со стороны заинтересованных этим делом людей ожидалось давно и так торжественно предвозвещенное «Вестником Европы» появление воспоминаний г. Тургенева о Белинском. Любопытство еще более подстрекалось естественными в этом случае вопросами, как-то отнесется к Белинскому г. Тургенев после тех подвигов, которые он так усердно совершал для осмеяния, поругания и поражения того самого дела, которому так горячо служил Белинский, и почему г. Тургенев помещает свое произведение не в «Русском Вестнике», его излюбленном и дружественном органе, а в «Вестнике Европы», обнаруживающем некоторое поползновение к либерализму. И вот, к общему удовольствию воспоминания г. Тургенева напечатаны; каждый может удовлетворять своему любопытству, сколько хочет, и решать все вопросы относительно их.
Главный персонаж в воспоминаниях г. Тургенева о Белинском – не Белинский, а сам г. Тургенев; этот персонаж составляет главную цель, подкладку и средоточие воспоминаний, ему принадлежит большая часть комплиментов, рассыпанных по воспоминаниям искусною рукою, тогда как все укоризны и порицания обращены не на противников Белинского, а на людей, не взлюбленных главным персонажем. Впрочем, было бы совершенно противно истине сказать, что Белинскому отведено в них слишком мало места; напротив, в них очень довольно сведений о Белинском. Эти сведения большею частью, если не исключительно, касаются только внешних отношений Белинского, так сказать, его наружной жизни и деятельности, его внешней, а не внутренней характеристики; подобными сведениями отличались и любопытно их представляли воспоминания Панаева, на которого г. Тургенев без всякого повода обрушил в разбираемых воспоминаниях такой приговор: «человек добродушный, но крайне легкомысленный и способный схватывать одни лишь верхи верхушек». До какой степени вообще был легкомыслен Панаев – это другой вопрос. Но то несомненно, что воспоминания г. Тургенева о Белинском нисколько не выше и захватывают нисколько не глубже, чем воспоминания Панаева о той же личности. При чтении воспоминаний г. Тургенева кажется, как будто читаешь что-то уже давно знакомое и слышанное; в них даже является неизбежный г. Краевский в роли редактора и ценителя литературных произведений, в которой он так мастерски, и казалось окончательно, был изображен Панаевым. Однако г. Тургенев счел нужным вызвать в своих воспоминаниях следующее: «Не могу на этом месте не упомянуть кстати о мистификации, которой в то время неоднократно подвергался один издатель толстого журнала, столь же одаренный практическими талантами, сколь обиженный природою насчет эстетических способностей». Скажите, какая новость, и как заманчиво замаскирована! Но к чему? Или уж следовало говорить прямо, или совсем оставить в покое г. Краевского во уважение к его нынешнему положению во главе современной легкой литературы и к тому, что он, слившись ныне воедино с поэтом, г. Некрасовым, восполнил этим в себе недостаток «эстетических способностей». Вообще это воспоминание как будто нарочно для того и вызвано, чтобы довершить разительное сходство между воспоминаниями Панаева и г. Тургенева.
Таким образом вклад, внесенный г. Тургеневым в собрание материалов для биографии и характеристики Белинского, не меньше и не значительнее того вклада, какой в свое время был внесен Панаевым; воспоминания обоих этих литераторов имеют одинаковый калибр, один полет и одну высоту мировоззрения. С благодарностью к г. Тургеневу мы соберем здесь из его воспоминаний те черты и факты, которые мы нашли в них и которые интересны хоть в некотором отношении.
Вот прежде всего наружность Белинского:
«Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, со впалой грудью и понурой головой. Одна лопатка заметно выдавалась больше другой. Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем все главные признаки чахотки, весь так называемый habitus этой злой болезни. Притом же он постоянно кашлял. Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие частые зубы, густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хоть и низкий лоб. Я не видывал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у Белинского был слаб, с хрипотою – неприятен; говорил он с особыми ударениями и придыханиями, „упорствуя, волнуясь и спеша“ (стих г. Некрасова). Смеялся он от души, как ребенок. Он любил расхаживать по комнате, постукивая пальцами красивых и маленьких рук по табакерке с русским табаком. Кто видел его только на улице, когда в теплом картузе, старой енотовой шубенке и стоптанных калошах он торопливой и неровной походкой пробирался вдоль стен и с пугливой суровостью, свойственной нервическим людям, озирался вокруг, – тот не мог составить себе о нем верного понятия, и я до некоторой степени понимаю восклицание одного провинциала, которому его указали: „Я только в лесу таких волков видал, и то травленных!“ Между чужими людьми, на улице, Белинский легко робел и терялся. Дома он обыкновенно носил серый сюртук на вате и держался вообще очень опрятно. Его выговор, манеры, телодвижения живо напоминали его происхождение; вся его повадка была чисто русская, московская; недаром в жилах его текла беспримесная кровь – принадлежность нашего великорусского духовенства, столько веков недоступного влиянию иностранной породы» (стр. 697–698).
А вот несколько неутешительных сведений о сердечной жизни Белинского:
«Я имею причину предполагать, что Белинский с своим горячим и впечатлительным сердцем, с своей привязчивостью и страстностью, Белинский, все-таки один из первых людей своего времени, не был никогда любимым женщиной. Брак свой он заключил не по страсти. В молодости он был влюблен в одну барышню, дочь тверского помещика Б-на; это было существо поэтическое, но она любила другого, и притом она скоро умерла. Произошла также в жизни Белинского довольно странная и грустная история с девушкой из простого звания; помню его отрывчатый, сумрачный рассказ о ней… Он произвел на меня глубокое впечатление… Но и тут дело кончилось ничем. Сердце его безмолвно и тихо истлело…» (724).
«… Он изнывал за границей от скуки; его так и тянуло назад в Россию, и даже семейная его жизнь, в которой мы все, его приятели, до тех пор не видели ничего особенно привлекательного, даже та предстала ему в радужных красках» (772).
Вообще судьба как-то особенно несправедлива к достойным людям, подвизавшимся у нас на поприще литературы; большею частью они жили не так, как бы следовало, т. е. им не давалась жизнь, какой они заслуживали, а доставались в удел одни тернии, так что кто-то сказал, что биографии наших литературных деятелей походят на мартиролог. Мы думали, что Белинский, по крайней мере, перед концом своей жизни был избавлен от материальных нужд и денежных страданий.
В литературных кругах на основании сведений, идущих от г. Некрасова и Панаева, составилась уверенность, что Белинский бедствовал только тогда, когда сотрудничал в «Отечественных Записках» и работал на г. Краевского (смеем утвердительно сказать, что газета г. Краевского ошибается, утверждая, что эти сведения распространял только один из издателей «Современника»; нет, они оба распространяли их), что с переходом в «Современник» он начал благоденствовать, что, работая на г. Некрасова, он жил как в раю, работал, сколько хотел, и однакоже брал презренного металла, сколько хотел, как полный хозяин. Каково же было наше удивление, когда мы прочли у г. Тургенева следующее:
«Я виделся с Белинским в течение четырех зим – с 1843 г. по 1846 г., и особенно часто перед январем 1847 г., когда я отправился надолго за границу и когда был основан „Современник“, т. е. куплен у покойного П. А. Плетнева. История основания этого журнала представляет много поучительного… Но изложить ее в точности пока еще трудно: пришлось бы поднимать старые дрязги. Довольно сказать, что Белинский был постепенно и очень искусно устранен от журнала, который был создан собственно для него, его именем приобрел сотрудников и наполнялся в течение целого года капитальными статьями, приобретенными Белинским для большого затеянного им альманаха. Белинский для „Современника“ разорвал связь с „Отечественными Записками“, а оказалось, что в новом журнале он вместо хозяйского места, на которое имел полное право, занял то же место постороннего сотрудника, наемщика, какое было за ним и в старом. У меня в руках находятся любопытные письма Белинского, относящиеся к этому времени: небольшие отрывки из них читатели найдут ниже» (719–720).
«… Вот отрывки из писем Белинского ко мне:
С. Петербург, 19 февраля (3 марта) 1847 г.
… получил от К. ругательное письмо, но не показал ***. Последний ничего не знает, но догадывается, а делает все-таки свое. При объяснении со мной он был не хорош; кашлял, заикался, говорил, что на то, что я желаю он, кажется, для моей же пользы, согласиться никак не может, по причинам, которые сейчас же объяснит, и по причинам, которых не может мне сказать. Я отвечал, что не хочу знать никаких причин, – и сказал мои условия. Он повеселел и теперь при свидании протягивает мне обе руки – видно, что доволен мною вполне! По тону моего письма вы можете ясно видеть, что я не в бешенстве и не в преувеличении. Я любил его, так любил, что мне и теперь иногда то жалко его, то досадно на него – за него, а не за себя. Мне трудно переболеть внутренним разрывом с человеком – а потом ничего. Природа мало дала мне способности ненавидеть за лично нанесенные мне несправедливости, я скорее способен возненавидеть человека за разность убеждений или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь высоко ценю ***, и тем не менее он в моих глазах – человек, у которого будет капитал, который будет богат, – а я знаю, как это делается. Вот уже начал с меня. Но довольно об этом» (стр. 727).
Нам как-то даже не верится, чтоб это все была правда. Но вот нам представляют свидетельство самого Белинского, если только напечатанное г. Тургеневым не выдумка, не подлог, чего кажется нельзя допустить. Поэтому мы считаем себя совершенно гарантированными от упреков в излишней доверчивости к г. Тургеневу, и вообще в пристрастии, и смело констатируем новый факт для литературной биографии Белинского: Белинский, променяв «Отечественные Записки» на «Современник», не выиграл этим ничего, не вышел из положения рабочего.
Из других черт для внешней биографии Белинского остаются разве только следующие. Отец его был лекарь, а дед диакон. В досужее время Белинский развлекался шуточным преферансом, и г. Тургенев рассказывает по этому случаю следующий анекдот:
«Играл он плохо, но с тою же искренностью впечатлений, с тою же страстностью, которые ему были присущи, что бы он ни делал! Помнится, мы однажды играли с ним, не в деньги – а так; он выигрывал и торжествовал… Но вдруг обремизился, остался без четырех. Потемнел мой Белинский пуще осенней ночи, опустил голову, как к смерти приговоренный. Выражение страдания, отчаяния так было искренне на его лице, что я наконец не выдержал и воскликнул, что это уже ни на что не похоже; что если так огорчаться, так лучше совсем бросить карты! – „Нет, – отвечал он глухо и взглянул на меня исподлобья, – все кончено; я только до бубновой игры и жил!“ – И в это мгновение, я ручаюсь, он действительно был убежден в том, что говорил» (стр. 717 и 718).
Материалов собственно для характеристики Белинского, как человека и писателя, у г. Тургенева весьма немного, даже, строго говоря, вовсе их нет. Г. Тургенев много говорит о внутренних качествах Белинского и об его литературных достоинствах; но все это состоит из фраз и общих мест, ничего не характеризующих, из натянутых и искусственно подогретых комплиментов, пересыпанных собственными очень интересными рассуждениями г. Тургенева, уже не натянутыми, а очень искренними и естественными, не подогретыми, а очень горячими по своему происхождению и существу, не относящимися к Белинскому, но уже к последующему периоду истории русской литературы. Оказывается, что Белинский употреблен был собственно как светлый фон для контраста, чтобы мрачнее выступала картина, которую хотел набросать на нем г. Тургенев. Но для понимания этих историко-литературных воззрений необходимо припомнить некоторые черты из последнего периода нашей литературной истории.
Известно, что в истории нашей новой литературы были свои средние века и свой период возрождения. Этот период возрождения начался очень шумно и обещал очень многое. Ломка и отрицание старого, по-видимому, шли далеко и захватывали глубоко. Старые литературные боги были изгнаны из почетных углов храма литературы и скромно покоились в храме «Русского Вестника»; старые идолы сталкивались с пьедесталов без большой любезности, как это обыкновенно бывает в подобных случаях, и бросались в старый негодный хлам. Либерализм царствовал везде неудержимый. Никто не хотел верить немногим проницательным людям, утверждавшим, что тот пышный цветок либерализма есть пустоцвет, что гражданские громы и перуны возрожденной литературы не больше, как лицемерные фразы. Даже сами старые боги обманулись в своих суждениях; движение, охватившее литературу, показалось им до того сильным и неудержимым, что они не надеялись справиться с ним или устоять против него. И, действительно, на них сыпались удары не всегда легкие и лицемерно фразистые; изредка, но зато метко, их поражал голос искреннего убеждения, сильной мысли и высокого чувства; от подобных поражений не легко было оправиться и даже очнуться. Наши либералы действительно стали сдаваться, г. Катков, первый либерал во вкусе ренессанс, скоро бросил либерализм и взялся за противоположное ремесло. Под его крылья стеклись как птенцы гг. Тургенев, Писемский, Анненков, Леонтьев, Лонгинов и др.; покойный Дудышкин крепче прижался к г. Краевскому; гг. Григорович и Даль потерялись из виду; г. Галахов умолк, г. Кавелин стушевался. Только либерализм г. Некрасова шел crescendo. Г. Гончаров стал редактором «Северной Почты», а потом и совсем оставил литературное поприще. Г. Тургенев, повидимому, подумывал о том же; он написал «Довольно», которое показалось многим последним словом, так сказать, лебединою песнью романиста-публициста, и потому многие были уверены, что г. Тургенев уже решил не бросать бисеров своего таланта перед читателями, зараженными либерализмом не по духу «Русского Вестника».
Но медовые годы литературного либерализма мало-помалу проходили; новый дух, обуявший литературу, выдохся; возродительное движение ослабевало и извращалось. Старые литературные боги увидели это и сразу сообразили, что для них еще не все потеряно, что возможен возврат к старому. И, действительно, скоро началась настоящая литературная реставрация; литературные бурбоны стали возвращаться в оставленный ими храм литературы. Г. Тургенев догадался, что возродительное движение, которого он так испугался, было просто «дымом», быстро рассеивающимся при дуновении противного ветра. И, действительно, этот дым скоро почти совсем рассеялся; и из литературных бурбонов не возвращаются только те, которые сами не хотят возвращаться. Гг. Тургенев и Гончаров реставрировались при помощи «Вестника Европы», который сам в некотором роде есть реставрация. Нужно ожидать, что в нем скоро появятся критики г. Анненкова и народные рассказы г. Григоровича.
Первое желание и первое дело реставрированных настоящих Бурбонов состояло в том, чтобы очернить и опозорить память Наполеона и оживить старые легитимистские воспоминания в бурбонском духе. Нечто подобное пожелал сделать и г. Тургенев при своей реставрации, и его воспоминания о Белинском в значительной степени продиктованы этим желанием. Они вызывают факты, выгодные для либеральной славы г. Тургенева, и представляют рассуждения, из которых должно следовать, что люди, низведшие его с пьедестала, были люди недостойные, ничтожные, просто нули в сравнении с Белинским, и, стало быть, низведение его, совершенное ими, ничтожно, недействительно, non avenue.
Из воспоминаний мы узнаем, что г. Тургенев не кто-нибудь, не какой-нибудь обыкновенный писатель, а воспитанник школы Белинского, его любимейший ученик. Что г. Тургенев остался верен духу Белинского, что его подвиги в «Русском Вестнике» против нигилистов ничего не значат, – это доказывается тем, что воспоминания не что иное, как хвалебный гимн Белинскому. Потому что, согласитесь сами, может ли нелиберальный человек прославлять Белинского? Хотя нужно правду сказать, что в устах г. Тургенева, после его литературных подвигов, гимн Белинскому столь же уместен, сколько был уместен подобный же гимн в устах г. Некрасова после его поэтически-гражданских подвигов. Г. Краевский тоже собирался печатать воспоминания о Белинском с похвальным гимном ему и некоторые отрывки из них уже напечатал. Затем остается ожидать, что подобные же воспоминания о Белинском напечатает еще г. Катков. Тогда это будет вполне достойная Белинского коллекция воспоминаний о нем его верных учеников.
Далее, воспоминания г. Тургенева напечатаны не в «Русском Вестнике», который не пользуется либеральной репутацией, а в «Вестнике Европы», который обнаруживает поползновение к либерализму. Это тоже что-нибудь да значит.
Затем, Писарев, принадлежавший к совершенно другому поколению и к другому направлению, чем Белинский, тоже уважал и одобрял г. Тургенева. Как Писарев хвалил г. Тургенева в своих статьях, это всем известно; теперь же из воспоминаний мы узнаем, что Писарев даже лично являлся к г. Тургеневу засвидетельствовать свое уважение; причем г. Тургенев задал ему такой нагоняй, на который Писарев не нашел, что и отвечать. Вот рассказ г. Тургенева об этом:
«Имя Писарева напоминает мне следующее: весной 1867 г., во время моего проезда через Петербург, он сделал мне честь – посетил меня (излишняя скромность; следовало бы сказать: удостоился чести быть принятым). Я до тех пор с ним не встречался, но читал его статьи с интересом, хотя со многими положениями в них, вообще с их направлением, согласиться не мог. Особенно возмутили меня его статьи о Пушкине. В течение разговора я откровенно высказался перед ним. Писарев с первого взгляда производил впечатление человека честного и умного, говорить правду которому не только можно, но и должно. – „Вы, – начал я, – втоптали в грязь между прочим одно из самых трогательных стихотворений Пушкина (обращение его к последнему лицейскому товарищу, долженствующему остаться в живых: „Несчастный друг“ и т. д.). Вы уверяете, что поэт советует своему приятелю просто взять да с горя нализаться. Эстетическое чувство в вас слишком живо: вы не могли это сказать серьезно – вы это сказали нарочно, с целью. Посмотрим, оправдывает ли вас эта цель… Поход на стихотворцев в 1866 году! Да это антикварская выходка, архаизм! Белинский – тот никогда бы не впал в такой просак!“ Не знаю, что подумал Писарев, но он ничего не отвечал мне. Вероятно, он не согласился со мною» (706–707).
И здесь опять излишняя скромность. Ведь очевидно, что Писарев не отвечал ничего потому, что не мог ничего ответить, что чувствовал себя побежденным, и его молчание было знаком согласия. Во всяком случае этот вспомянутый эпизод делает честь сколько Писареву, столько же, если не больше, Тургеневу.
Наконец всем известно, что пьедестал, на котором стоял г. Тургенев, был разрушен главным образом Добролюбовым, который прежде сам принимал большое участие в его созидании. Иному может показаться, что этот факт не лестен для г. Тургенева. Ничуть не бывало; разве можно придавать какое-нибудь значение действиям такого бестактного писателя, как Добролюбов? Разрушение тургеневского пьедестала было одною из бестактностей, которыми богата литературная деятельность Добролюбова и образчик которых представлен г. Тургеневым в его воспоминаниях.
«Другое замечательное качество Белинского как критика было его понимание того, что именно стоит на очереди, что требует немедленного разрешения, в чем сказывается „злоба дня“. Не в пору гость хуже татарина, гласит пословица; не в пору возвещенная истина хуже лжи, не в пору поднятый вопрос только путает и мешает. Белинский никогда бы не позволил себе той ошибки, в которую впал даровитый Добролюбов; он не стал бы, например, с ожесточением бранить Кавура, Пальмерстона, вообще парламентаризм, как неполную, а потому неверную форму правления. (Примечание г. Тургенева под чертою:) Пишущий эти строки своими ушами слышал, как один молодой почитатель Добролюбова, за карточным столом желая упрекнуть своего партнера в сделанной им грубой ошибке, воскликнул: „Ну брат, какой же ты Кавур!“ Признаюсь, мне стало грустно: не за Кавура, разумеется! (Продолжение текста:) Даже допустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром, он бы (Белинский) понял всю несвоевременность (у нас в России, в 1862 г.) подобных нападений; он бы понял, какой партии они должны оказать услугу, кто бы порадовался им!» (стр. 705).
Совершенно справедливо. Но и мы позволим себе привести следующий факт из наших воспоминаний. Несколько престарелых и с почтенными чинами почитателей г. Тургенева, сидя за красным столом, говорили: «Ах, как прекрасно Тургенев изобразил в своем романе зловредность нынешних вольнодумных идей и как комично представил нынешних молодых людей. Просто его следовало бы расцеловать за это». Кроме того, все, даже вероятно и редакция «Вестника Европы», помнят множество фактов в таком роде. Поймают где-нибудь мазурика, утащившего из кармана платок или часы, и сейчас все кричат: «это нигилист». Поймают какого-нибудь поджигателя и тоже кричат: «это нигилист». Поймают убийцу, и все кричат: «это нигилист». Словом, какой бы ни выискался ужасный злодей, но если он только молодой человек, умеет читать и писать и не боится лягушек, его сейчас же называют нигилистом. Признаемся, нам становилось грустно: не за г. Тургенева, разумеется! Добролюбов конечно не мог дать такого хода своему Кавуру; а все-таки «Вестник Европы» печатает у себя статьи с эпиграфом из Добролюбова, а не из «Отцов и детей», которые явились в свое время так кстати, которые были настоящею «злобою дня» и которые непременно были бы написаны или до небес превознесены Белинским, если бы он жил в то время; он бы понял, какой партии они должны оказать услугу!
Наконец г. Тургенев бросает несколько камешков в чей-то огород и бросает с большим, неподдельным ожесточением. Это ожесточение со стороны г. Тургенева совершенно понятно, пожалуй, даже извинительно; кто же не рад случаю лишний раз уязвить противника? Но непонятно, почему «Вестник Европы» согласился сделаться органом этого ожесточения. Даже, впрочем, и г. Тургеневу следовало бы умерить жар своего ожесточения против людей, которые в свое время действительно низложили его с пьедестала, но которых теперь уже нет на сцене действия, которые уже принадлежат истории, которые уже не могут ответить г. Тургеневу ни слова, и потому его нападение на них не есть борьба, ведущаяся по рыцарским правилам, а есть действие, грубо называемое ляганием. Кроме того при господствующем ныне настроении либеральной прессы г. Тургенев может быть совершенно спокоен насчет этих людей, и они не могут стать ему поперек дороги к его пьедесталу. Пусть г. Тургенев осмотрится вокруг себя, и он совершенно успокоится. Поэтому мы думаем, что г. Тургенев напрасно оскорбил в своих воспоминаниях литературную память людей, которые в настоящее время для него нисколько не опасны и не могут мешать его славе. В самом деле, к чему было делать следующую выходку:
«Еще одно замечательное качество Белинского, как критика, состояло в том, что он был всегда, как говорят англичане, „in earnest“; он не шутил ни с предметом своих разысканий, ни с читателем, ни с самим собою; а позднейшее, столь распространенное, глумление он бы отвергнул как недостойное легкомыслие или трусость. Известно, что глумящийся человек сам хорошенько не дает себе отчета, над чем он трунит и иронизирует; во всяком случае он может воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность собственных убеждений. Человек свистит, хохочет… Поди, угадывай, разумей его речь, куда он ее гнет? Быть может, он смеется над тем, что точно достойно смеха, а быть может, и над собственным смехом „зубы скалит“ (ужели в самом деле нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы узнать это?). Мне скажут, что бывают времена, когда можно только намекать на истину, и что смеющимся устам легче высказывать ее… Да разве Белинский жил в такое время, когда можно было все высказывать начистоту? И однакоже не прибегал он к глумлению, к „излюбленному“ свистанию, к зубоскальству. Сочувственный смех, возбуждаемый в известной части публики тем „свистанием“, не далеко ушел от того смеха, которым встречались безнравственные выходки Сенковского… И здесь и там выпячивалась та же склонность к грубой потехе, к гаерству, склонность, к сожалению, свойственная русскому человеку, и которую не следовало бы поблажать. Хохот невежества почти так же противен – так же и вреден – как его злоба» (стр. 713–714).
В чей огород брошен этот камешек? С первого раза можно было бы подумать, что приведенные слова г. Тургенева метят в г. Салтыкова, о котором Писарев утверждал, будто бы он трунит, иронизирует, хохочет, глумится и зубоскальствует, сам не зная над чем. Но в другом месте воспоминаний г. Тургенев выражается так, что его слова не допускают подобного толкования. Он говорит, что если бы Белинский дожил до настоящего времени, то «как бы порадовался он поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова (вот видите), трезвой правде Решетникова!» Итак, приведенного места нельзя относить к г. Салтыкову, потому что г. Тургенев признает его не непонимающим ничего зубоскалом, а сатириком. И после этого некоторые злонамеренные люди осмеливаются утверждать, будто бы сатирик Салтыков есть литературная «шелуха», которая всегда по своей легковесности летит туда, куда дует ветер! После этого уже не трудно догадаться, в чей огород брошен камешек, кто занимался излюбленным свистанием. Нам кажется только, что редакция «Вестника Европы» поступает весьма непоследовательно, с одной стороны, печатая у себя статьи с эпиграфами из Добролюбова, а с другой – пропагандируя мысль, будто бы влияние «свистания» Добролюбова ничем не разнилось от влияния безнравственных выходок Сенковского, будто бы, например, произведения г. Салтыкова суть сатиры, а сатиры Добролюбова – зубоскальство и гаерство.
Вот еще один камешек, тоже понятный и известно куда метящий:
«Воистину детское и к тому же не новое, подогретое объяснение искусства подражанием природе не удостоилось бы от него ни возражения, ни внимания; а аргумент о преимуществе настоящего яблока перед написанным уже потому на него бы не подействовал, что этот пресловутый аргумент лишается всякой силы, – как только мы возьмем человека сытого. Искусство, повторяю, было для Белинского такой же узаконенной сферой человеческой деятельности, как и наука, как общество, как государство…» (стр. 715).
По поводу этого мы можем только заметить, что это еще большой вопрос, что лучше для сытого человека не в смысле еды или закуски, а в смысле эстетического наслаждения – нарисованная ли корзинка с яблоками или настоящая корзинка с естественными яблоками, нарисованные грозди винограда или естественные?
Наконец вот в воспоминаниях г. Тургенева несколько строк, действительно подходящих к характеристике Белинского:
«Белинский был, что у нас редко, действительно страстный и действительно искренний человек, способный к увлечению беззаветному, но исключительно преданный правде, раздражительный, но не самолюбивый, умевший любить и ненавидеть бескорыстно. Люди, которые, судя о нем наобум, приходили в негодование от его „наглости“, возмущались его „грубостью“, писали на него доносы, распространяли про него клеветы, – эти люди вероятно удивились бы, если бы узнали, что у этого циника душа была целомудренная до стыдливости, мягкая до нежности, честная до рыцарства; что вел он жизнь чуть не монашескую, что вино не касалось его губ. В этом последнем отношении он не походил на тогдашних москвичей. Невозможно себе представить, до какой степени Белинский был правдив с другими и с самим собою; он чувствовал, действовал, существовал только в силу того, что он признавал за истину, в силу своих принципов» (стр. 699).
К этому мы прибавим, не боясь быть опровергнутыми никем, что те люди, которых г. Тургенев укорял в гаерстве, зубоскальстве, действовавшем не лучше безнравственных выходок Сенковского, во всех указанных в этой выдержке отношениях стояли нисколько не ниже, если еще не выше Белинского. Г. Тургенев, конечно, этому не поверит; но редакция «Вестника Европы», надеемся, поверит. Если же и она не поверит, то мы рекомендуем ей спросить об этом предмете у ее сотрудника, г. Пыпина, в беспристрастие и историческую правдивость которого она, конечно, верит.