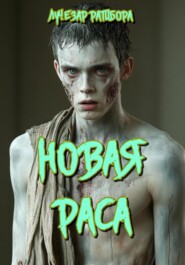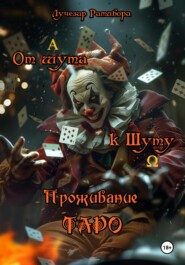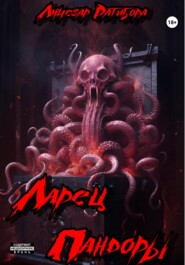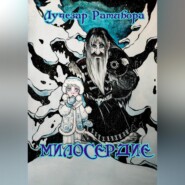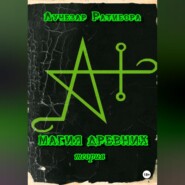По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Симбиоз
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Неблизко, но и недалеко. Если зверюга проснётся, то может внезапно поинтересоваться новичками. Услышит или учует. Рисковать как-то не хочется. Предлагаю поскорее завершать вылазку и загружаться в корабль. Паола, Евгения, вам ещё долго собирать образцы?
– Уже почти всё собрали, капитан. Ещё бы какого-нибудь млекопитающего поймать для изучения крови.
– Будет. И млекопитающее, и кровь. Но не сегодня.
За пятнадцать напряжённых минут врач и биолог завершили свои дела, и космонавты вернулись на корабль. Паола и Евгения закрылись в медицинском отсеке и начали проводить исследования и анализы взятых проб.
Из истории нового человечества (7)
Пока аппарат летел к ближайшей звезде, на Земле начали испытывать воздействие временного поля на живые организмы. Сначала на клетки in vitro. Потом на животных, потом на людях. Результаты были поразительны. Клетки молодели, их время отматывалось назад. Это было словно волшебство! А резко ускоренный луч времени уничтожал клетки, аннигилировал их в ничто. Животные нормально переносили старение и омоложение. И человеческие добровольцы тоже. Первая мысль, возникшая у учёных после омоложения первого добровольца, была о бессмертии. Ведь человек сможет жить бесконечно, просто отматывая назад свой жизненный цикл, своё время! Но тут возникла иная проблема: при омоложении все клетки откатывались назад в своём личном времени, но трансформация затрагивала не только тело. Человек в своём развитии, в своём личностном состоянии возвращался назад. Если его омолаживали до двадцатилетнего возраста, то он вновь был двадцатилетним – полностью, у него словно не было прожитых лет, он их не помнил. После выключения обратнонаправленного временного луча человек недоумевал, где он, почему он здесь, а не в институте на учёбе, ведь он студент. Это значительно снижало всю ценность омоложения. У субъекта отсутствовал весь его жизненный опыт, все наработки, все его знания, гении человечества не смогут продолжать свой полезный труд в новом молодом теле, потому что вся память стиралась, «омолаживалась». Зато в этом новоизобретённом способе видны были прекрасные перспективы для имплантологии: можно было вырезать у больного нерабочий орган, омолодить его и вставить обратно. И проблем с отторжением донорской плоти не будет.
Конечно же, военные заинтересовались использованием ускоренного временного луча для уничтожения противника. Они выбили у государства разрешение на проведение опытов по увеличению мощности, толщины луча хронокампса и убежали в свои секретные лаборатории. Думаю, у них всё получится, но это совсем другая история.
7
Врач и биолог застряли в лаборатории до глубокой ночи. Сергей хотел поначалу дождаться результатов анализов, но, поняв, что это надолго, лёг спать. Другие члены экипажа уже давно набирались сил во сне. На ночь включили датчики движения, которые отслеживали любые перемещения в радиусе десяти метров от шаттла. В случае обнаружения движущихся объектов датчики сигнализировали противным писком на личном коммуникаторе у капитана на поясе. Не услышать было невозможно.
А с утра на совместном завтраке две учёные поведали о предварительных результатах своей работы. Они обе были изрядно невыспавшиеся, но всё равно в их глазах светилось научное любопытство, придавая дополнительную бодрость.
– Я исследовала местные бактерии, червей из почвы, растительные клетки, – начала доклад Паола. – Проверила их устойчивость к нашим антибиотикам, посмотрела их действие на культуру животных клеток. В общем, они мало отличаются от наших земных бактерий. Антибактериальные средства их убивают. И в клетках тоже. Конечно, это нельзя экстраполировать на все бактерии этой планеты, для этого надо находить и изучать разного рода патогены, опять-таки, у меня пока нет под рукой вирусов… Но есть одно "но", капитан, что сводит на нет все ваши неоднократно озвученные мечты о местной пище – бактерии-грибы.
Тут врач замолчала и многозначительно посмотрела на Сергея. Видимо, в её понимании волшебное словосочетание "бактерии-грибы" должно было по умолчанию всё объяснить. Вопреки ожиданию Паолы глубина познаний капитана челнока в медицине была невелика. В чём он, собственно, и признался:
– Паола, объясни подробнее, я ничего не понял. "Бактерии-грибы" для меня означает, что там бактерии и грибы, не более.
Паола вздохнула, поправила на носу очки и продолжила.
– Они обладают свойствами и бактерий, и грибов. Эти микроорганизмы являются симбионтами, которые вторглись в метаболизм всех существ этой планеты. Они повсюду – в клетках растений, в животных клетках, в почве, даже в воздухе полно их спор. Внутри клеток они объединяются в единую грибницу, как сеть окутывают и клетки, и межклеточное пространство.
– Они паразиты? Просто жрут ресурсы без усилий?
Тут и Евгения вклинилась в разговор:
– Не совсем так, они симбионты. Я рассматривала растительные клетки. Здесь у растений нет своего хлорофилла. Большинство растений имеет синий цвет из-за особого фермента бактериородопсина, выделяемого бактериями-грибами. Благодаря ему они преобразуют энергию света в углеводы. Только выделяется при этом не кислород, а водород. В зелёных растениях они выделяют фермент бактериохлорофилл, вот здесь уже идёт привычный нам фотосинтез с образованием кислорода…
– Девушки, коллеги, всё это замечательно. Только почему же их нельзя съесть? – с улыбкой перебил Сергей.
– В процессе миллионов лет эволюции на Эльпиде все организмы, простые и сложные, привыкли жить с этими бактериями-грибами, – эстафетная палочка была вновь у Паолы. – Без них они и не выживут. В животных клетках червей нет митохондрий, зато, угадайте с первого раза, кто там вместо них? Правильно! Снова бактерии-грибы, помогающие утилизировать молочную кислоту и жирные кислоты с образованием энергии. Судя по всему, здесь несколько разновидностей этих организмов. В свою очередь, большинство видов этих симбионты за долгий период эволюции «обленились» и не могут полноценно существовать вне взаимодействия с другими организмами. В воздухе летают споры, которые сами по себе неактивны. Но достаточно им почуять слизистую – они тут же входят в полную форму, начинают есть ресурсы носителя и размножаться.
А к ответу на ваш вопрос, капитан: при взаимодействии с земными клетками бактерии-грибы просто пожирают их ресурсы. И клетки погибают. Стимуляторы иммунитета, антигрибковые препараты и антибактериальные средства тут бессильны. Мы перепробовали всевозможные препараты, что захватили с Земли. Можно их уничтожить прямым контактом с агрессивной средой – с этанолом или пероксидом водорода. Но в этом случае погибнут и живые клетки человека.
Паола сняла очки, показывая, что ответ закончила. При этом и врач и биолог восторженно и где-то глуповато улыбались, глаза их сияли.
Глядя на их восторженные улыбки, командир экспедиции ломал голову и пытался в озвученной информации найти повод для радости. Не нашёл.
– Кхе-кхе, коллеги, правильно ли я понимаю, что есть в сыром виде на этой планете ничего нельзя, дышать воздухом нельзя?
Врач с биологом синхронно и радостно закивали.
– Тогда откуда это искрящаяся радость в ваших глазах и улыбки на лицах, будто вы только что сообщили чудесное известие?! – начал выходить из себя капитан.
– Сергей, это же чудесное открытие! Более того, у нас есть подозрение, что эти симбионты могут уничтожать в организмах любые иные патогены, включая онкологические опухоли. Только представь, какой прорыв можно совершить на Земле в излечении болезней, если только решить проблему сотрудничества бактерий-грибов и человеческого организма! – Джонни была счастлива.
– Ну да, ну да… Осталось всего ничего. Правда, девушки? – Сергей невесело рассмеялся. – Решение этого вопроса как раз и есть камень преткновения, который нам теоретически мешает колонизировать Эльпиду. Это если не считать огромных зверей-монстров. И миллионы разных новых бактерий и вирусов, которые мы пока не изучали.
Паоле и Евгении пришлось признать правоту слов командира.
– Паола, личная просьба: попробуй провести термическую обработку местных растений и тех же червей. Может быть, хоть в жареном виде они станут съедобными?
– Хорошо, капитан. Я проведу подобный опыт.
Опыт получился как вещь в себе: в лесу рядом с кораблём на низкорослых деревьях нашлись какие-то плоды. После термической обработки, а для этого пришлось разжигать костёр возле корабля, анализы Паолы подтвердили, что бактерии-грибы в клетках фруктов мертвы. С этой точки зрения плоды стали съедобны. Но там содержались ещё какие-то соединения, неизвестные земной науке. Это могли оказаться токсины. Может быть, даже опасные для жизни. И снова Сергей остался без местной пищи.
Из истории нового человечества (8)
Через запланированное время был получен сигнал от зонда, долетевший до Земли. Всё шло, как и предполагалось, неожиданных поломок и ошибок не возникло, аппарат снова вошёл во временное ускорение и продолжил полёт. Зонд должен был долететь до двойной звезды, поискать планету, наиболее близкую по условиям к земным – на это отводилось пара-тройка месяцев в земном исчислении – заснять данные атмосферы, обитателей, если таковые есть, и вернуться обратно. В итоге на весь полёт туда и обратно с выполнением задач предварительно отводилось три земных года. Всё это время шли проверки, перепроверки, был отобран экипаж для полёта в случае обнадёживающих данных от зонда. Экипаж из девяти человек тренировался непрестанно.
Наконец, прошло три года, три долго тянущихся для учёных года, и зонд вернулся. И принёс ошеломительные данные! Вокруг двойной звезды системы Альфы Центавра – Ригеля Кентаурус и Хадара – были обнаружены целых две планеты с атмосферой, относительно пригодной для существования жизни. Это пятая и шестая планета от двойной единой звезды. Пятая планета имеет атмосферу, близкую по составу к земной, но с увеличенной долей водорода в три процента. Но вся эта планета покрыта водой, одним сплошным океаном. По крайней мере, на первый «взгляд» зонда, дальнейшие подробные исследования тот не проводил по причине экономии времени. Зато шестая планета порадовала с орбиты видами морей, океанов, континентов, растительным покровом, горами и низинами. Атмосфера была насыщена азотом – почти восемьдесят три процента, кислород составлял около десяти процентов, примерно три процента – водород, оставшуюся долю составляли углекислый и другие газы. Человек в его обновленной эволюционировавшей форме вполне мог приспособиться к жизни на такой планете. Тем более, всё равно планировалось при изучении планеты пребывать в скафандре до полного изучения флоры и фауны. Таков строгий протокол безопасности. Планету под номером пять назвали АЦ-5. А шестая планета получила собственное имя Эльпида.
Исследователи и учёные всего мира стояли буквально на ушах от восторга! Ведь там с огромной долей вероятности должна быть жизнь. Неужели, наконец-то, человечество решит вопрос, одно ли оно во Вселенной, или всё-таки есть ещё разумные существа!
Первый старт космического корабля в столь дальний путь к звёздной системе Альфы Центавры сопровождался волнением всего мирового сообщества. Ещё не улетев, девять членов экипажа заранее стали героями. Новость гремела по всему миру, показывали подготовку космонавтов, их строгий конкурсный отбор, вкратце объяснялись теоретические научные основы возможности предстоящего полёта. Люди только и говорили об экспедиции, о разумных существах, что смогут жить на Эльпиде. Подобное воодушевление и ожидание можно было наблюдать, наверное, при первом запуске человека в космическое пространство в далёком тысяча девятьсот шестьдесят первом году н. э. Тогда советский космонавт впервые вышел в безвоздушное пространство орбиты Земли.
Итак, день старта. Камеры всех крупнейших сетевых каналов вещания направлены на ракету. Космонавтов прибыли проводить высшие чины и главы всех шести мировых держав. Торжественные речи, поздравления, радостные, но слегка волнующиеся лица. Поехали! Корабль на ускорении в восемь g вырвался из атмосферы Земли, потом ускорение в два раза уменьшилось. На ускорении в четыре g он продолжил разгон, достиг скорости в двести восемьдесят семь километров в секунду за время чуть менее двух часов, после чего был активирован хронокампс, и ракета ушла в ускоренный временной тоннель, исчезнув с радаров.
8
В один из дней Джонни выбралась чуть дальше в лес. Ей нужно было увеличить классификационную таблицу флоры Эльпиды. Биолог совершала вылазку, конечно же, не одна, всё по схеме: первыми вылетали дроны в разных направлениях под управлением Киоши, потом следовал Давид с плазменной пушкой наперевес, потом уже замыкала цепочку Евгения.
Инженер рулил беспилотниками, пялясь в экран, но периодически бросая взгляды вокруг по кустам. Всё-таки ему тоже было интересно на неизвестной планете. Давид напряжённо смотрел вдаль меж деревьев. Тут Киоши аж вскрикнул, больно отозвавшись в наушниках всего экипажа:
– Смотрите! Вы только посмотрите!!!
Он подбежал к подножию огромного дерева. Джонни и Давид тут же приблизились. Примыкая к дереву, располагались маленькие постройки из глины, которые больше всего напоминали термитники. Из-за маленького размера и бурной растительности вокруг этих строений не было видно уже через пару метров. А возле домиков бегали существа – крошечные, не более четырёх сантиметров в высоту. Завидев человека в скафандре, который приблизился и разглядывал, они начали дико пищать своими тонкими голосками, бросились по домам. И лишь некоторые, наоборот, выбежали и начали бросать в сторону Киоши палки и камни, а точнее – песчинки и веточки. Атака на Киоши, конечно же, не увенчалась успехом.
Физик-ядерщик сумел поймать парочку существ, поднёс поближе к шлему и стал разглядывать.
– Друзья! Это же сару[3 - Сару – в переводе с японского «обезьяна».]. Похоже, что мы только что нашли ещё одну разумную жизнь во Вселенной, кроме людей.
– Поздравляем! Будут теперь называться теперь киоши, по имени первооткрывателя! – раздался в наушниках многоголосый хор команды.
Двоих существ бережно доставили в медицинский отсек и поместили в прозрачный бокс. Появилась работа и для лингвиста Сиены. Теперь она проводила время с сару – так впервые их назвал инженер из Азиатского Анклава, так в итоге и решили называть расу этих маленьких существ. Ростом, как уже упоминалось, они были около четырёх сантиметров. Существа были прямоходящие, как люди. Две нижние конечности (ноги), четыре верхних (руки), три глаза. Одежды как таковой на них не было, но было подобие набедренной повязки, сплетённой из травянистых волокон. Всё тело сару было покрыто тонкой мягкой шерстью, в районе копчика можно было, если постараться, разглядеть, миниатюрный рудиментарный хвост. Лицом и черепом по строению они более походили на неандертальцев или обезьян – имели такой же покатый низкий лоб и мощную выдвинутую вперёд челюсть.
Сиена не отходила от существ, пыталась с ними общаться, кормила их, давала воды для купания – сару сначала боялись, потом, слегка привыкнув, с удовольствием плескались в ёмкости. Через несколько дней плотного контакта был готов предварительный отчёт: сару находились на уровне первобытнообщинного строя. Жили они этой общиной в термитнике, где самой главной была Мать – особь женского пола. В цепкие руки инженера повезло попасться двум самкам. Словарь у них очень бедный, много жестов и гортанных звуков. Большая часть передачи информации при общении приходится на интонацию и мимику.
– Сару расселены по всей планете, – докладывала Сиена. – Из врагов у них только мелкие насекомые и мелкие птицы. В целом, большая часть их жилища находится под землёй, так что они при атаках они успевают спасаться. Часто воюют с соседними племенами. Это, я бы сказала, даже полезно: захватывают пленниц, с которыми потом размножаются, идёт смешение кровей, генов, происходит улучшение генофонда племён.
У временных пленников взяли анализ крови. Как и ожидалось, в их крови тоже было полно бактерий-грибов. Похоже, симбионты не оставили на Эльпиде никого без своего контроля. Монополия одного вида налицо.