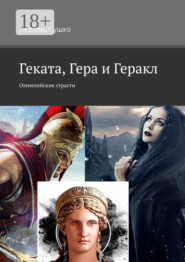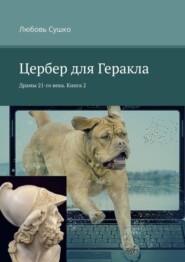По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Уроки лирики. Анализ стихотворения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И покуда всклокоченный,
В сальной на вороте ризе,
Поп армянский кадит
Над разбитой его головой,
Большеглазая девочка
Ждет его в дальнем Тебризе,
Тяжко носит дитя
И не знает,
Что стала вдовой.
Такая вот история о жизни и смерти русского драматурга, погибшего в 34 года. Русский царь получил извинение от властей и щедрые дары.
О жизни и судьбе Грибоедова задумался и другой узник сталинского режима, поэт Даниил Андреев. Его стихотворение, обращенное к драматургу, начинается с тех самых трагических событий в Тегеране:
Бряцающий напев железных строф Корана
Он слышал над собой сквозь топот тысяч ног…
Толпа влачила труп по рынкам Тегерана,
И щебень мостовых лицо язвил и жег.
Трещало полотно, сукно рвалось и мокло,
Влачилось клочьями, тащилось бахромой…
Давно уж по глазам очков разбитых стекла
Скользнули, полоснув сознанье вечной тьмой.
Поэта поражает и волнует в большей мере противостояние двух миров, отношение между востоком и западом, бунт в мусульманском мире, в котором по воле судьбы оказался русский человек, европеец. Он словно предвидел все события нашего сегодняшнего дня.
Поистине страшно это воззвание к аллаху, которым они всегда прикрывали любую свою агрессию:
Хвалы, глумленье, вой. – Алла! Алла! Алла!
Он, брошенный, лежал во рву у цитадели,
Он слушал тихий свист вороньего крыла.
И мы видим, как и во все времена брошенного нашим правительством на произвол судьбы русского человека. Он всегда и везде был одинок, но в этом жутком мире одиночество его кажется абсолютным.
О, если б этот звук, воззвав к последним силам,
Равнину снежную напомнил бы ему,
Усадьбу, старый дом, беседу с другом милым,
И парка белого мохнатую кайму.
Но не милые сердцу картины должен был напомнить ему крик ворона, а совсем другие события, происходившие в столице. Оба поэта не могут не вспомнить о скандалах, которые были связанны с именем писателя.
Но если шелест крыл, щемящей каплей яда
Сознанье отравив, напомнил о другом:
Крик воронья на льду, гранит Петрова града,
В морозном воздухе – салютов праздный гром, —
И снова воспоминания о другом бунте, участником которого если не прямо, то косвенно он все-таки был, и понятно, что во многих своих бедах, и в том, что оказался там, поэт был виноват сам.
Быть может, в этот час он понял – слишком поздно, —
Что семя гибели он сам в себе растил,
Что сам он принял рок империи морозной:
Настиг его он здесь, но там – поработил.
Каждый сам определяет свою судьбу, он ушел от наказания в собственном мире, но во многом был виноват, и потому расплата не могла его не застигнуть. Он выбрал свободу и вольность, и не мог не увидеть, как дорого за нее приходится платить.
Его, избранника надежды и свободы,
Чей пламень рос и креп над всероссийским сном,
Его, зажженное самой Душой Народа,
Как горькая свеча на клиросе земном.
Но смерть – расплата за все, что случилось в этом мире, за вольности и за бурю, которая была посеяна им же совсем недавно.
Смерть утолила все. За раной гаснет рана,
Чуть грезятся еще снега родных равнин…
Закат воспламенил мечети Тегерана.
И в вышине запел о боге муэдзин.
Поэт в первой половине ХХ века, собственной жизнью и свободой расплачивавшийся за идеи тех, кто разбудили Герцена и всю остальную смуту, наверное, имел право упрекнуть того, кто был причастен к первым искрам бунта, уничтожившего весь этот мир. Ему не могло и присниться в кошмарном сне все, что пришлось пережить этим людям, которые оказались жертвами бредовых мечтаний о свободе, равенстве и братстве, беспощадной критики строя и устоев.