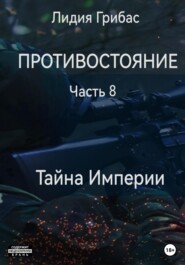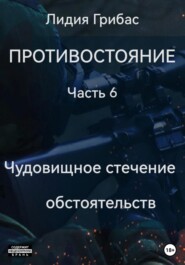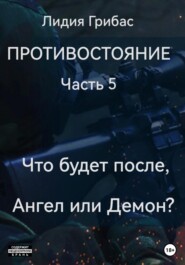По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Противостояние. Часть 1. Маленькая Настенька
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пока, папа.
* * *
… В кабинете следователя, помимо него самого, сидел оперативник и две женщины в гражданском, как выяснилось позже, представительницы опекунского совета. Следователь все-таки установил, что допрашивать меня еще нельзя и сегодня пригласили представительниц. Спрашивал он тоже, что и вчера оперативник. Я повторила все, что видела и знала. Потом он разложил передо мной десяток фотографий, на которых я опознала всех четверых, что были вчера. В милиции знали кто они, но никак не могли их «взять». Следователь закончил допрос и ко мне обратилась одна из представительниц.
– Скажи, Настя, у тебя есть кто-то из родных? – спросила она.
– Нет, – ответила я.
– Но ты же понимаешь, что тебе всего 14 лет и ты не можешь жить одна. Я думаю, уже сегодня ты должна поехать с нами, – говорила представительница с явным безразличием.
– Но как же похороны? – растерянно спросила я.
– Похороны возьмет на себя государство, а ты пока побудешь у нас. Возможно, найдется семья, которая захочет тебя удочерить, – было видно, что ей глубоко наплевать на меня, она просто делала свою работу.
«Интернат! Сегодня! Сейчас! Нет!!!»
Я обреченно посмотрела на Германа.
– Уже есть семья, которая готова удочерить Настю, – уверенно сказал он.
– И что же это за семья? – язвительно спросила представительница.
– Марк Генрихович и Марта Аскольдовна Гретман. – все так же уверенно отвечал Герман.
(Гретман – здесь и далее, произносится через «э» – Грэтман).
Услышав эту фамилию, представительницы, как-то поутихли, впрочем, как и следователь, которому Герман предъявил паспорт, когда мы вошли в кабинет, он даже разрешил Герману присутствовать на допросе.
– К вам, в опекунский совет они смогут подъехать через неделю, – продолжал Герман. – И похороны мы организуем сами. Когда мы можем забрать тела покойных? – он обратился к следователю.
– Я думаю, около полудня, сегодня, – ответил следователь.
– Всего доброго, – сказал Герман присутствующим в кабинете следователя, взял меня за руку и вывел из кабинета.
Началась сумасшедшая суета. Дом все еще был опечатан и родителей привезли домой к соседке, с которой дружила мама.
Похороны организовал Герман, точнее похоронное бюро, которое Герман проплатил. Родителей привезли и внесли в дом. Я готова была сойти с ума, увидев их.
«Папа! Мама! Мамочка!»
Я бросилась к гробу матери и начала рыдать, не замечая никого вокруг.
– Мама! Мамочка! – кричала я, обнимая ее гроб. – Мамочка! Милая моя, не оставляй меня одну! – горько и жалобно рыдала я у гробов родителей, не желая отходить от них.
Герман взял меня за плечи, пытаясь поднять меня от гроба.
– Пусти! – кричала я. – Я не хочу уходить от них! Я не хочу оставаться без них!
Я хочу с ними! Мама!!!
Герман перестал отстранять меня от гробов, просто держал за плечи. Я безудержно рыдала еще минут сорок, целуя то отца, то маму.
– Мамочка, папочка заберите меня с собой! Не оставляйте меня одну! Ну, пожалуйста!
В комнату вошли мужчины, пора было выносить гробы из дома.
– Не-е-е-е-т! – закричала я.
Герман изо всех сил прижал меня к себе. Соседка подала ему стакан с успокоительным, он взял его и поднес к моим губам.
– Настенька, выпей, маленькая моя, – тихо сказал он.
– Как мне жить дальше, Герман? – спросила я, выпив успокоительное и посмотрев на него.
Он не знал, что мне ответить и снова крепко обнял меня.
Напившись успокоительных, я перестала истерить, лишь крепко сжимала ладонь Германа, который не отходил от меня ни на минуту.
Стоя на кладбище, перед покойными родителями, я уже не рыдала и не убивалась. Я смотрела на маму и думала: «Ну как же так, мамочка? Как я теперь одна? За что тебя больше нет со мной?» В душу закрадывалась пустота. Пустота и тупая, ноющая боль в груди и все… Душа кричала, разрываясь от боли, но я не могла плакать, вместо слез на щеках, в душу забиралась жестокость. Лишь несколько слезинок скатилось по моим щекам, когда я в последний раз целовала родителей. Позже, став старше, я не позволяла себе плакать никогда, боль, поселившаяся в сердце, не давала этого сделать, вместо слез на глазах в душе становилось все больше жестокости.
«Сегодня я осталась совсем одна. Что дальше?»
Поминальный обед для соседей заказали в кафе. Мы с Германом туда не пошли, отправились к нему домой. Приехав, он наскоро накрыл стол, поставив на него бутылку водки. Налив рюмки, он протянул одну мне, я растерянно взяла ее, не решаясь выпить.
– Ты ни разу не пила? – удивился Герман.
– Нет, – сухо ответила я.
– Я не настаиваю, но я бы на твоем месте выпил, – сказал он.
Как ни странно, но выпила я легко. Наверное, состояние было настолько отрешенное, что даже водка, сегодня, была «водой».
– Тебе очень плохо? – спросил меня Герман, наблюдая, как легко я «опрокинула» первый в жизни стакан водки.
– Не знаю. Какая-то, до сих пор неведомая мне, тупая ноющая боль в груди. Боль и пустота, – ответила я. – У меня хватит сил жить дальше, но я не знаю как. Против меня закон, а я совсем одна, что со мной будет в интернате, я даже представить не могу, как я смогу там жить.
Герман сидел напротив меня и, взяв мои ладони в свои, внимательно посмотрел мне в глаза.
– А, как же я, Настя? Ты совсем не воспринимаешь меня всерьез?
– Ты хочешь, чтобы тебя посадили из-за меня? Малолетки, Герман, не рядовой гопстоп и просто откупиться, вряд ли удастся, даже тебе.
– Ты разве не слышала, что я сказал дамам из опеки?
– Да, сегодня тебе удалось запудрить им мозги и они меня отпустили, но через неделю они снова станут искать меня и найдут, – мрачно ответила я.
– А я никому не пудрил мозги, я говорил серьезно, – возмутился Герман.