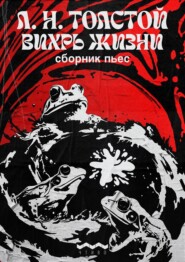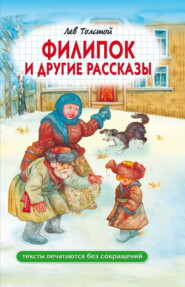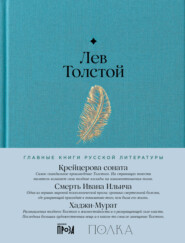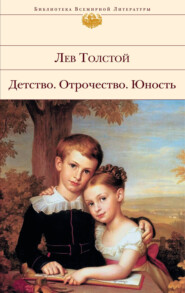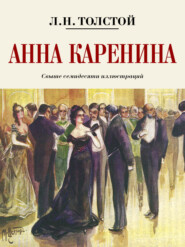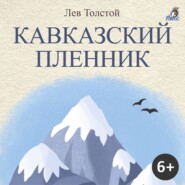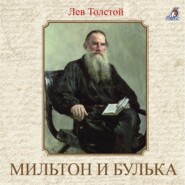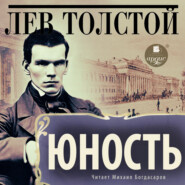По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полное собрание сочинений. Том 33. Воскресение. Черновые редакции и варианты
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Докладываютъ ли предс?д[ателю] [?]
Какъ идутъ дебаты?
Куда его свезутъ?
На мостовую, дождь.
Какъ ?хали на баржахъ?
Какiя пом?щенiя?
Въ какомъ году?
Какъ см?няли конвойныхъ?
Какъ милуютъ въ комисiи прошенiй? Совс?мъ, или Сенатъ касировалъ, но ихъ всетаки ссылаютъ?
Елань, поскотн[ые] дворы какъ. Шаники. Коралики. Ярушники.
Лапшу, щи
баско – хорошо од?мши
молоко – скором[ное]
молочное – мясо
лонесь – прошлый
коевадни – третьегодня
язви тебя въ таки, чобы тебя соскало
Чо поисто – зач?мъ
Лопоть – одежда
Чембары – бродни
Чирки – женская обувь
Копи…
Якорь тебе
Давно – много
Эка ты, паря.
Типы
Пиловой истагъ [?]
Озямъ
Жигана, паръ
Правая – л?вая.
Подаянiе.
* № 8.
Ужасъ того, что непредвид?но. Страхъ, что умерла Маслова и злая надежда, что это она.
–
КОММЕНТАРИИ
Приводимые в комментарии цитаты из соответствующих дневников, пока лишь частично опубликованных по копиям и притом с пропусками («Дневник Льва Николаевича Толстого». Издание первое под редакцией В. Г. Черткова. Том 1. 1895—1899. М. 1916), а также ив записных книжек, доселе неопубликованных, извлекаются из автографов, хранящихся в Архиве Толстого в Публичной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. Выдержки в комментариях из неопубликованных писем Толстого и к Толстому извлекаются также из автографов, хранящихся в различных рукописных собраниях. Сокращенные ссылки, делаемые при этом, означают: АТБ – Архив Толстого, хранящийся в Публичной библиотеке СССР имени В. И. Ленина, AЧ – Архив В. Г. Черткова, хранящийся в Государственном Толстовском музее и частично у В. Г. Черткова, ГТМ – Государственный Толстовский музей, ИЛ – Институт русской литературы Академии наук СССР.
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ «ВОСКРЕСЕНИЯ».
I.
В основу сюжета «Воскресения» лег следующий случай, рассказанный Толстому А. Ф. Кони, гостившим в июне 1887 г. в Ясной поляне. В бытность Кони прокурором петербургского окружного суда к нему явился молодой человек из аристократических слоев общества с жалобой на то, что товарищ прокурора, в ведении которого находились тюрьмы, отказал ему в передаче письма арестантке Розалии Они, требуя предварительного его прочтения. В ответ на указание Кони, что товарищ прокурора поступил руководствуясь тюремным уставом и потому правильно, жалобщик предложил самому Кони прочесть письмо и затем распорядиться передать его Розалии. Из слов своего посетителя и из позднейшего рассказа смотрительницы женского отделения тюрьмы Кони о Розалии узнал следующее. Она была дочерью вдовца чухонца, арендатора мызы в одной из финляндских губерний. Будучи тяжело болен и узнав от врачей о близости смерти, отец Розалии обратился к владелице мызы, богатой петербургской даме, с просьбой позаботиться о дочери после его смерти. Дама обещала это сделать и, когда отец умер, взяла Розалию к себе в дом. Сначала девочку всячески баловали, но затем остыли к ней и сдали ее в девичью, где она воспитывалась до шестнадцатилетнего возраста, когда на нее обратил внимание родственник хозяйки, только что окончивший курс в одном из высших привилегированных учебных заведений, тот самый, который позже явился к Кони. Гостя у своей родственницы на даче, он соблазнил девушку, и когда она забеременела, хозяйка с возмущением выгнала ее из дома. Розалия, брошенная своим соблазнителем, родила; ребенка своего она поместила в воспитательный дом, а сама превратилась мало-по-малу в проститутку самого низкого разбора. Однажды в притоне около Сенной она украла у пьяного «гостя» сто рублей, спрятанных затем хозяйкой притона. Отданная под суд с участием присяжных, Розалия была приговорена к четырем месяцам тюрьмы. В числе присяжных, судивших Розалию, случайно оказался и ее соблазнитель, который после своей истории с несчастной девушкой, побывав на родине, в провинции, жил в Петербурге жизнью людей своего круга. На суде он узнал Розалию; встреча с ней в обстановке суда произвела на него сильное впечатление, глубоко потревожив его совесть, и он решил жениться на ней. Об этом своем решении он и сообщил Кони при своем визите к нему, прося его ускорить венчание с Розалией. Несмотря на то что Кони отговаривал своего собеседника от поспешной женитьбы на Розалии, советуя ему предварительно ближе присмотреться к ней, чтобы лучше узнать ее, он твердо стоял на своем. Наступивший вслед затем пост сам собой отдалил венчание. Соблазнитель Розалии довольно часто виделся с ней в тюрьме и возил ей всё нужное для приданого. В первое же свидание с ним Розалия объяснила ему, что вызвана к нему из карцера, куда она была посажена за то, что бранилась в камере самыми площадными словами. В конце поста Розалия заболела сыпным тифом и умерла. О дальнейшей судьбе ее жениха после этого у Кони не было точных сведений.
По словам Кони, история Розалии была выслушана Толстым с большим вниманием, и на следующий день утром Толстой сказал ему, что ночью он много думал по поводу рассказа и находит, что перипетии его нужно было бы изложить в хронологическом порядке. Он советовал Кони обработать этот рассказ для «Посредника», в издательской деятельности которого сам в ту пору принимал деятельное участие.[532 - Рассказ А. Ф. Кони, сообщенный Толстому, впервые был опубликован Кони в статье «Воспоминаниy о Льве Николаевиче Толстом, напечатанной в ,,Ежемесячных литературных и популярно-научных приложениях к «Ниве»“ 1908 г., № 9. Статья эта под заглавием «Лев Николаевич Толстой» перепечатана в книге А. Ф. Кони «На жизненном пути». Том второй. М. 1916. Рассказ о Розалии Они – на стр. 31—37.] В конце декабря 1887 года Толстой в письме к П. И. Бирюкову относительно Кони писал следующее: «Он очень любезный человек и обещал рассказ в «Посредник», от которого я жду много, потому что сюжет прекрасный, и он очень даровит» (АТБ).
В мае 1888 г. вопрос о том, кому обрабатывать Коневский сюжет – Кони или Толстому, видимо, еще не был решен. Посылая Толстому свою книгу «Судебные речи», Кони писал ему в письме от 14 мая 1888 г.: «Пусть сложный труд с приготовлением книги для печати и усиленная деятельность за последний год послужат извинением, что я до сих пор не исполнил своего обещания написать историю бедной Розалии Они и ее соблазнителя» (АТБ). Одновременно с этим Толстой в письме от 12 апреля 1888 г. писал П. И. Бирюкову: «спросите его – Кони, начал ли он писать обещанный рассказ для «Посредника», а если нет, то отдаст ли он мне тему этого рассказа. Очень хороша и нужна».[533 - «Толстовский ежегодник 1913 г.» Спб. 1914, стр. 121.] 9 мая того же года Толстой писал жене: «Кони я спрашивал, написал ли он рассказ и передает ли мне сюжет? Прелестный сюжет, и хорошо, и хочется написать».[534 - «Письма графа Л. Н. Толстого к жене» 1862—1910 г. Издание второе. М. 1915, стр. 331]
Вероятно, в это же время Толстой обратился – в недошедшем до нас письме – и к самому Кони с просьбой об уступке ему сюжета будущего «Воскресения». Судим так на основании письма Кони к Толстому от 1 июня 1888 г.: «Ваша мысль написать о Розалии Они, о ее соблазнителе, о которой мне передали почти одновременно с получением вашего письма, меня чрезвычайно обрадовала, и взамен «разрешения», упоминаемого вами, я обращаюсь к вам с горячею просьбою не покидать этой мысли. Из-под вашего пера эта история выльется в такой форме, что тронет самое зачерствелое сердце и заставит призадуматься самую бесшабашную голову» (АТБ).
Однако, получив от Кони согласие на уступку сюжета повести, Толстой полтора года не принимался за работу над ним. В течение всего 1888 года он вообще ничего не писал, кроме писем. В упомянутом письме его к Бирюкову от 12 апреля 1888 г. читаем: «Писать головой очень хочется и знаю, что нужно, а не могу – сердцем не тянет». В 1889 году Толстой вернулся к литературной работе. Он пишет «Праздник просвещения», статью по поводу «Севастопольских воспоминаний» А. И. Ершова, «Дьявол» и начерно заканчивает ранее набросанные «Плоды просвещения» и начатую «Крейцерову сонату». А. М. Новиков, в то время домашний учитель в семье Толстых, вспоминает, что осенью 1889 года, знакомя гостившего в Ясной поляне своего последователя и единомышленника В. В. Рахманова с рассказом Кони, Толстой предложил ему обработать его. В ответ на это предложение Рахманов стал горячо убеждать Льва Николаевича самому взяться за работу над этим сюжетом. Толстой обещал подумать.[535 - А. М. Новиков «Зима 1889—1890 годов в Ясной поляне» – «Лев Николаевич Толстой». Юбилейный сборник. Собрал и редактировал H. Н. Гусев. Государственное издательство. М.-Л. 1928, стр. 208.]
Впервые в декабре 1889 года, в период, когда заканчивалось писание «Крейцеровой сонаты», которая, по словам Толстого, «страшно надоела» ему, в его дневнике сделана запись, свидетельствующая о том, что он сосредоточился над мыслями о повести на сюжет, рассказанный Кони, – о «Коневском рассказе», или «Коневской повести». (Так пока называет Толстой свой новый замысел.) В этой записи читаем: «Мысли о Коневском рассказе всё ярче и ярче приходят в голову. Вообще нахожусь в состоянии вдохновения 2-й день. Что выйдет – не знаю». И вслед за этим: «Верю, что во мне сила Твоя, данная для исполнения дела Твоего. Дело же Твое в том, чтоб преувеличивать силу Твою в себе и во всем мире». 17 декабря в дневнике записано: «Смутно набираются данные для изложения учения[536 - Какой свой замысел имеет здесь в виду Толстой, неясно.] и для Коневской повести. Хочется часто писать и с радостью думаю об этом».
За работу над повестью Толстой принялся 26 декабря 1889 года. Под этим числом в дневнике записано: «Неожиданно стал писать Коневскую повесть и, кажется, недурно». Эта именно дата проставлена перед текстом самой ранней рукописи повести, не имеющей еще заглавия (см. Описание рукописей, № 1). Работа над рукописью продолжалась в течение приблизительно полутора месяцев. Конец декабря был занят обработкой «Плодов просвещения» и участием в репетициях пьесы в связи с постановкой ее на яснополянской домашней сцене 30 декабря, и Толстой над повестью мог работать лишь урывками. Под 27 декабря в дневнике записано: «Писал немного Коневскую повесть». В дневниковой записи 29—31 декабря читаем: «Пробовал писать Коневскую повесть. Немного поправил, но вперед не пошел. Всё время были репетиции, спектакль, суета, бездна народа, и всё время мне стыдно». 3 января 1890 г. в дневнике записано: «Утром поправлял «О жизни» и начал было Коневскую повесть. В тот же день в записной книжке сделана следующая неясная запись: «Коневская повесть. Поэтический жених-вдовец». Но в ближайшее время Толстой к работе над повестью возвращается лишь спорадически. Почти в течение всего января он был занят переделкой «Плодов просвещения», а затем почти до конца апреля работал над ,,Послесловием к «Крейцеровой сонате»“. Следующее упоминание о повести – в записи дневника от 23 января: «Не помню, что утром делал. Кажется, пытался Коневскую повесть, но ничего не написал». Писание повести Толстой возобновил лишь в феврале. Под 11 числом этого месяца в дневнике набросан краткий план ее начала: «Гулял, очень много думал о Коневской повести. Ясно всё и прекрасно. 1) Он не хотел обладать ею, но сделал это потому, что так надо – ему кажется. Она прелестна в его воображении. Он улыбается, и ему хочется плакать. 2) Поездка в церковь, там она, белое платье, поцелуй. 3) Старая горничная берет деньги, но смотрит грустно. 4) Старая горничная фаталистка. Катюша одинока. 5) Она, увидав его при проезде, хочет под поезд, но садится и слышит ребенка в чреве. 6) Он спрашивает у тетки, где она. У помещика в горничных. Дурно живет, в связи с лакеем. И ей нельзя не быть в связи: в ней разбужена чувственность. 7) Он в волнении спрашивает: и вы прогнали? И очень она плакала? И я виноват? и т. д. 8) Попробовал ambition[537 - [честолюбие]] – скверно, не по характеру, за границу – Париж – разврат – скверно. Осталось чтение, изящество, охота, карты, примёры. Волоса седеют – тоска».
В ближайшие дни – 12—15 февраля – Толстой чувствовал себя нездоровым и, судя по его дневнику, ничего не писал. Под 16 февраля в дневнике записано: «Писал Коневскую повесть недурно». В ближайшие дни нездоровье опять помешало Толстому продолжать работу над повестью. Под 21 февраля в дневнике записано: «Здоровье лучше, но попробовал писать Коневскую и не мог». Записи в дневнике под 22 февраля – «Опять тоже» и под 23 февраля – «Совсем не выходит» – видимо, также говорят о неудаче с попыткой продолжать «Коневскую повесть». Видимо, около того же времени сделана следующая запись в записной книжке, относящаяся, очевидно, к эпизоду преследования Нехлюдовым Катюши: «К Коневской. Уйдите, уйдите. Потом он подошел, видит, она постояла и вдруг побежала». Вслед за этим упоминания о повести встречаем лишь в июньских дневниковых записях. Как видно из описания рукописи № 1 – самого раннего приступа к повести, эта рукопись получила свой окончательный вид не сразу. Кроме отдельных мелких исправлений и дополнений, в рукописи сделаны две вставки, одна из которых по объему равна более
/
объема первоначально написанного текста. В ней – описание заутрени и событий последующего за ней дня, предшествовавших эпизоду обладания Нехлюдовым Катюшей, т. е. один из основных моментов первой части будущего романа. Текст этой вставки заключает в себе развитие записи, помеченной в дневниковом плане 11 февраля цыфрой 2 и отчасти 1. Поэтому нужно думать, что этот текст был написан после того, как план был составлен и внесен в дневник. Помеченное в плане цыфрой 3 в рукописи не нашло себе никакого отражения; помеченное цыфрой 4 нашло частичное отражение: во вставке меньшего объема, чем предыдущая, рассказано о жутком чувстве покинутости и одиночества, которое испытывает Катюша, ложась в постель в вечер отъезда Нехлюдова. Помеченное цыфрой 5 рассказано в рукописи не так, как намечено в плане. По плану, так же, как и в окончательном тексте романа, Катюша бежит к поезду, в котором едет Нехлюдов при проезде его через станцию с войны, в тексте же рукописи этот эпизод отнесен ко времени отъезда Нехлюдова от тетушек на войну, на другой день после сближения с Катюшей. О самоубийстве Катюша здесь еще не задумывается. (Мысль о том, чтобы броситься под поезд, приходит ей в голову в зачеркнутом варианте рукописи, написанном внешне в форме более драматической, чем окончательный вариант.) Однако, судя по цвету чернил, одинаковому с тем, какой отличает всё написанное после составления плана, и этот эпизод написан также после 11 февраля, причем Толстой здесь изменил первоначальный замысел. Помеченное цыфрами 6, 7 и 8 написано также после того, как план был составлен: ряд выражений этой записи повторен буквально в тексте рукописи. После составления плана, опять таки судя по цвету чернил, написано и всё дальнейшее, вплоть до конца рукописи. В общем после дневниковой записи под 11 февраля 1890 г. было написано больше половины текста первоначального автографа.
Вся эта работа по отделке и дополнению рукописи не ограничилась, нужно думать, одним днем – 16 февраля. Она, видимо, продолжалась и в июне месяце, после перерыва, длившегося около четырех месяцев. В дневниковой записи, относящейся к 10 июня 1890 г., читаем: «Хочу писать Коневскую… Попробовал писать, не пошло». Через три дня, 13 июня, в дневнике опять записано: «Хотел писать Коневскую. Не идет». Но на следующий день, судя по дневнику, повесть несколько подвинулась вперед. 14 июня записано: «Немного пописал Коневскую». Видимо, к работе над «Коневской» относятся и дневниковые записи 15 июня – «Немного пописал» и 16 июня – «Чуть-чуть писал. Понадобились материалы и обдумать».[538 - Впервые детальный анализ последовательных текстовых наслоений в этой рукописи сделан В. И. Срезневским в статье „«Коневская повесть» Л. Н. Толстого“ – «Анатолий Федорович Кони. 1844—1924. Юбилейный сборник». Издательство «Атеней». Л. 1925, стр. 40—56.]
После этого в работе над повестью вновь произошла остановка на полгода. Советуя А. Ф. Кони взяться за обработку истории Розалии Они, Толстой, как мы видим, рекомендовал изложить ее перипетии в хронологическом порядке. Так именно, в отличие от того, что мы имеем в окончательном тексте, и сам Толстой первоначально построил свое повествование: оно начинается с характеристики Валерьяна Юшкина, будущего Нехлюдова, приезжающего к своим тетушкам перед отъездом на войну, продолжается описанием встречи его с Катюшей (при этом дается попутная характеристика и Катюши), рассказом о заутрене, о физическом сближении Нехлюдова с Катюшей, об его отъезде, о последующей судьбе Катюши до поступления ее в публичный дом и о судьбе Нехлюдова до суда над Катюшей. Текст рукописи доведен до момента появления Нехлюдова в зале суда и в общем по содержанию соответствует тексту глав XII—XVIII, II—V и XXXVII печатного текста первой части романа, будучи значительно кратче его. Заглавия повести еще не дано. При обработке ее от внимания Толстого ускользнула несогласованность хронологических дат, упоминаемых в ее тексте: Нехлюдов приезжает к тетушкам в начале севастопольской войны (т. е. в 1854 году), и тогда же происходит его сближение с Катюшей. Ему в это время 25 лет. В момент суда над Катюшей Нехлюдову 36 лет, а между тем суд приурочен к 1883 году.