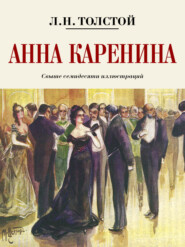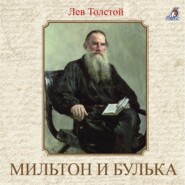По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
[Нечаянно]
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
[Нечаянно]
Лев Николаевич Толстой
Лев Толстой
[Нечаянно]
Он вернулся в шестом часу утра и прошел по привычке в уборную, но, вместо того чтобы раздеваться, сел – упал в кресло, уронив руки на колени, и сидел так неподвижно минут пять, или десять, или час, – он не помнил.
– Семерка червей. Бита! – И он увидал его ужасную, непоколебимую морду, но все-таки просвечивающую самодовольством.
– Ах, черт! – громко проговорил он.
За дверью зашевелилось. И, в ночном чепце и ночной с прошивкой сорочке, в зеленых бархатных туфлях, вышла его жена, красивая энергическая брюнетка с блестящими глазами.
– Что с тобой? – сказала она просто, но, взглянув на его лицо, вскрикнула то же самое. – Что с тобой? Миша! Что с тобой?
– Со мной то, что я пропал.
– Играл?
– Да.
– Ну и что?
– Что? – с каким-то злорадством повторил он. – То, что я погиб! – и он всхлипнул, удерживая слезы.
– Сколько раз я просила, умоляла.
Ей жалко было его, но жальче было себя – и за то, что будет нужда, и за то, что она не спала всю ночь, мучаясь и дожидаясь его. «Уж пять часов», – подумала она, взглянув на часы, лежавшие на столике.
– Ах, мучитель. Сколько?
Он взмахнул обеими руками мимо ушей.
– Все! Не все, но больше всего: все свое, все казенное. Бейте меня. Делайте со мной, что хотите. Я погиб. – И он закрыл лицо руками. – Ничего больше не знаю!
– Миша! Миша, послушай. Пожалей меня, я ведь тоже человек, я не спала всю ночь. Тебя ждала, мучилась, и вот награда. Скажи по крайней мере – что? сколько?
– Столько, что не могу, не может никто заплатить. Все шестнадцать тысяч. Все кончено. Убежать, но как?
Он взглянул на нее, и, чего никак не ожидал, она привлекала его к себе. «Как она хороша», – подумал он и взял ее за руку. Она оттолкнула его.
– Миша, да говори же толком, как же ты это мог?
– Надеялся отыграться. – Он достал портсигар и жадно стал курить. – Да, разумеется. Я мерзавец, я не стою тебя. Брось меня. Прости в последний раз, и я уйду, исчезну. Катя. Я не мог, не мог. Я был как во сне, нечаянно. – Он поморщился. – Но что же делать. Все равно погиб. Но ты прости. – Он опять хотел обнять ее, но она сердито отстранилась.
– Ах, эти жалкие мужчины. Храбрятся, пока все хорошо, а как плохо – так отчаяние и никуда не годятся.
Она села на другую сторону туалетного столика.
– Расскажи порядком.
И он рассказал ей. Рассказал, как он вез деньги в банк и встретил Некраскова. Он предложил ему заехать к себе и играть. И они играли, и он проиграл все и теперь решил покончить с собой. Он говорил, что решил покончить с собой, но она видела, что он ничего не решил, а был в отчаянии и готов был на все. Она выслушала его и, когда он кончил:
– Все это глупо, гадко: нечаянно проиграть деньги нельзя. Это какое-то кретинство.
– Ругай, что хочешь делай со мной.
– Да я не ругать хочу, а хочу спасти тебя, как всегда спасала, как ты ни гадок и жалок мне.
– Бей, бей. Недолго уже…
– Так вот, слушай. По-моему, как ни мерзко, безжалостно мучать меня… Я больна – нынче еще принимала… и вдруг этот сюрприз. И эта беспомощность. Ты говоришь, что делать? Делать очень просто что. Сейчас же, – теперь шесть часов, – поезжай к Фриму и расскажи ему.
– Разве Фрим пожалеет? Ему нельзя рассказать.
– Как, однако, ты глуп. Неужели я буду советовать тебе рассказать директору банка, что ты доверенные тебе деньги проиграл в… Расскажи ему, что ты ехал на Николаевский вокзал… Нет. Сейчас поезжай в полицию. Нет, не сейчас, а утром в десять часов. Ты шел по Нечаевскому переулку, на тебя набросились двое. Один с бородой, другой почти мальчик, с браунингом, и отняли деньги. И тотчас же к Фриму. То же самое.
– Да, но ведь… – Он опять закурил папиросу. – Ведь они могут узнать от Некраскова.
– Я пойду к Некраскову. И скажу ему. Я сделаю.
Миша начал успокаиваться и в восемь часов утра заснул как мертвый. В десять она разбудила его.
Это происходило рано поутру в верхнем этаже. В нижнем же этаже, в семействе Островских, в шесть часов вечера происходило следующее.
Только что кончили обедать. И молодая мать, княгиня Островская, подозвала лакея, обнесшего уже всех пирожным, апельсинным желе, спросила чистую тарелку и, положив на нее порцию желе, обратилась к своим детям, – их было двое: старший – мальчик семи лет, Вока; девочка – четырех с половиной, Танечка. Оба были очень красивые дети: Вока – серьезный, здоровый, степенный мальчик, с прелестной улыбкой, выставлявшей разрозненные, меняющиеся зубы, и черноглазая, быстрая, энергическая Танечка, болтливая, забавная хохотунья, всегда веселая и со всеми ласковая.
– Дети, кто снесет няне пирожное?
– Я, – проговорил Вока.
– Я, я, я, я, я, я, – прокричала Танечка и уж сорвалась со стула.
– Нет, кто первый сказал. Вока. Бери, – сказал отец, всегда баловавший Танечку и потому всегда бывший рад случаю выказать свою беспристрастность. – А ты, Танечка, уступи брату, – сказал он любимице.
– Воке уступить я всегда рада. Вока, бери, иди. Для Воки мне ничего не жалко.
Обыкновенно дети благодарили за обед. И родители пили кофе и дожидались Воки. Но его что-то долго не было.
– Танечка, сбегай в детскую, посмотри, отчего Вока долго не идет.
Танечка соскочила со стула, зацепила ложку, уронила, подняла, положила на край стола, она опять упала, опять подняла и с хохотом, семеня своими обтянутыми чулками сытыми ножками, полетела в коридор и в детскую, позади которой была нянина комната. Она было пробежала в детскую, но вдруг позади себя услыхала всхлипывание. Она оглянулась, Вока стоял подле своей кровати и, глядя на игрушечную лошадь, держал в руке тарелку и горько плакал. На тарелке ничего не было.
– Вока, что ты? Вока, а пирожное?
– Я-я-я нечаянно съел дорогой. Я не пойду… никуда… не пойду. Я, Таня… я, право, нечаянно… я все съел… сначала немного, а потом все съел.
– Ну, что же делать?
Лев Николаевич Толстой
Лев Толстой
[Нечаянно]
Он вернулся в шестом часу утра и прошел по привычке в уборную, но, вместо того чтобы раздеваться, сел – упал в кресло, уронив руки на колени, и сидел так неподвижно минут пять, или десять, или час, – он не помнил.
– Семерка червей. Бита! – И он увидал его ужасную, непоколебимую морду, но все-таки просвечивающую самодовольством.
– Ах, черт! – громко проговорил он.
За дверью зашевелилось. И, в ночном чепце и ночной с прошивкой сорочке, в зеленых бархатных туфлях, вышла его жена, красивая энергическая брюнетка с блестящими глазами.
– Что с тобой? – сказала она просто, но, взглянув на его лицо, вскрикнула то же самое. – Что с тобой? Миша! Что с тобой?
– Со мной то, что я пропал.
– Играл?
– Да.
– Ну и что?
– Что? – с каким-то злорадством повторил он. – То, что я погиб! – и он всхлипнул, удерживая слезы.
– Сколько раз я просила, умоляла.
Ей жалко было его, но жальче было себя – и за то, что будет нужда, и за то, что она не спала всю ночь, мучаясь и дожидаясь его. «Уж пять часов», – подумала она, взглянув на часы, лежавшие на столике.
– Ах, мучитель. Сколько?
Он взмахнул обеими руками мимо ушей.
– Все! Не все, но больше всего: все свое, все казенное. Бейте меня. Делайте со мной, что хотите. Я погиб. – И он закрыл лицо руками. – Ничего больше не знаю!
– Миша! Миша, послушай. Пожалей меня, я ведь тоже человек, я не спала всю ночь. Тебя ждала, мучилась, и вот награда. Скажи по крайней мере – что? сколько?
– Столько, что не могу, не может никто заплатить. Все шестнадцать тысяч. Все кончено. Убежать, но как?
Он взглянул на нее, и, чего никак не ожидал, она привлекала его к себе. «Как она хороша», – подумал он и взял ее за руку. Она оттолкнула его.
– Миша, да говори же толком, как же ты это мог?
– Надеялся отыграться. – Он достал портсигар и жадно стал курить. – Да, разумеется. Я мерзавец, я не стою тебя. Брось меня. Прости в последний раз, и я уйду, исчезну. Катя. Я не мог, не мог. Я был как во сне, нечаянно. – Он поморщился. – Но что же делать. Все равно погиб. Но ты прости. – Он опять хотел обнять ее, но она сердито отстранилась.
– Ах, эти жалкие мужчины. Храбрятся, пока все хорошо, а как плохо – так отчаяние и никуда не годятся.
Она села на другую сторону туалетного столика.
– Расскажи порядком.
И он рассказал ей. Рассказал, как он вез деньги в банк и встретил Некраскова. Он предложил ему заехать к себе и играть. И они играли, и он проиграл все и теперь решил покончить с собой. Он говорил, что решил покончить с собой, но она видела, что он ничего не решил, а был в отчаянии и готов был на все. Она выслушала его и, когда он кончил:
– Все это глупо, гадко: нечаянно проиграть деньги нельзя. Это какое-то кретинство.
– Ругай, что хочешь делай со мной.
– Да я не ругать хочу, а хочу спасти тебя, как всегда спасала, как ты ни гадок и жалок мне.
– Бей, бей. Недолго уже…
– Так вот, слушай. По-моему, как ни мерзко, безжалостно мучать меня… Я больна – нынче еще принимала… и вдруг этот сюрприз. И эта беспомощность. Ты говоришь, что делать? Делать очень просто что. Сейчас же, – теперь шесть часов, – поезжай к Фриму и расскажи ему.
– Разве Фрим пожалеет? Ему нельзя рассказать.
– Как, однако, ты глуп. Неужели я буду советовать тебе рассказать директору банка, что ты доверенные тебе деньги проиграл в… Расскажи ему, что ты ехал на Николаевский вокзал… Нет. Сейчас поезжай в полицию. Нет, не сейчас, а утром в десять часов. Ты шел по Нечаевскому переулку, на тебя набросились двое. Один с бородой, другой почти мальчик, с браунингом, и отняли деньги. И тотчас же к Фриму. То же самое.
– Да, но ведь… – Он опять закурил папиросу. – Ведь они могут узнать от Некраскова.
– Я пойду к Некраскову. И скажу ему. Я сделаю.
Миша начал успокаиваться и в восемь часов утра заснул как мертвый. В десять она разбудила его.
Это происходило рано поутру в верхнем этаже. В нижнем же этаже, в семействе Островских, в шесть часов вечера происходило следующее.
Только что кончили обедать. И молодая мать, княгиня Островская, подозвала лакея, обнесшего уже всех пирожным, апельсинным желе, спросила чистую тарелку и, положив на нее порцию желе, обратилась к своим детям, – их было двое: старший – мальчик семи лет, Вока; девочка – четырех с половиной, Танечка. Оба были очень красивые дети: Вока – серьезный, здоровый, степенный мальчик, с прелестной улыбкой, выставлявшей разрозненные, меняющиеся зубы, и черноглазая, быстрая, энергическая Танечка, болтливая, забавная хохотунья, всегда веселая и со всеми ласковая.
– Дети, кто снесет няне пирожное?
– Я, – проговорил Вока.
– Я, я, я, я, я, я, – прокричала Танечка и уж сорвалась со стула.
– Нет, кто первый сказал. Вока. Бери, – сказал отец, всегда баловавший Танечку и потому всегда бывший рад случаю выказать свою беспристрастность. – А ты, Танечка, уступи брату, – сказал он любимице.
– Воке уступить я всегда рада. Вока, бери, иди. Для Воки мне ничего не жалко.
Обыкновенно дети благодарили за обед. И родители пили кофе и дожидались Воки. Но его что-то долго не было.
– Танечка, сбегай в детскую, посмотри, отчего Вока долго не идет.
Танечка соскочила со стула, зацепила ложку, уронила, подняла, положила на край стола, она опять упала, опять подняла и с хохотом, семеня своими обтянутыми чулками сытыми ножками, полетела в коридор и в детскую, позади которой была нянина комната. Она было пробежала в детскую, но вдруг позади себя услыхала всхлипывание. Она оглянулась, Вока стоял подле своей кровати и, глядя на игрушечную лошадь, держал в руке тарелку и горько плакал. На тарелке ничего не было.
– Вока, что ты? Вока, а пирожное?
– Я-я-я нечаянно съел дорогой. Я не пойду… никуда… не пойду. Я, Таня… я, право, нечаянно… я все съел… сначала немного, а потом все съел.
– Ну, что же делать?