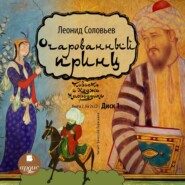По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Возмутитель спокойствия
Год написания книги
1940
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Возмутитель спокойствия
Леонид Васильевич Соловьев
Повесть о Ходже Насреддине #1
Ходжа Насреддин, веселый бродяга тридцати пяти лет от роду, в зените своей славы возвращается в Бухару. Он остр на язык и гибок умом, он любит простых людей и ненавидит несправедливость. Недаром от одного его имени трепещут правители средней Азии.
Но в родном городе его не ждет спокойная жизнь. Эмир Бухары и его приближенные не дают жизни своим подданным.
Первая книга Леонида Соловьева о похождениях веселого народного героя, основанная на народных анекдотах о великом защитнике простого люда Ходже Насреддине.
Леонид Васильевич Соловьев
Возмутитель спокойствия
Памяти моего незабвенного друга Мумина Адилова, погибшего 18 апреля 1930 года в горном кишлаке Нанай от подлой вражеской пули, посвящаю, благоговея перед его чистой памятью, эту книгу.
В нем были многие и многие черты Ходжи Насреддина – беззаветная любовь к народу, смелость, честное лукавство и благородная хитрость, – когда я писал эту книгу, не один раз мне казалось в ночной тишине, что его тень стоит за моим креслом и направляет мое перо.
Он похоронен в Канибадаме. Я посетил недавно его могилу; дети играли вокруг холма, поросшего весенней травой и цветами, а он спал вечным сном и не ответил на призывы моего сердца…
И сказал ему я: «Для радости тех, что живут со мною на земле, я напишу книгу, – пусть на ее листы не дуют холодные ветры времени, пусть светлая весна моих стихов никогда но сменяется унылой осенью забвенья!..» И – посмотри! – еще розы в саду не осыпались, и я еще хожу без клюки, а книга «Гюлистан», что значит «Цветник роз», уже написана мною, и ты читаешь ее…
Саади
Эту историю передал нам Абу-Омар-Ахмед-ибн-Мухаммед со слов Мухаммеда-ибн-Али-Рифаа, ссылавшегося на Али-ибн-Абд-аль-Азиза, который ссылался на Абу-Убейда-аль-Хасима-ибн-Селяма, говорившего со слов своих наставников, а последний из них опирается па Омара-ибн-аль-Хаттаба и сына его Абд-Аллаха, – да будет доволен аллах ими обоими!
Ибн-Хазм, «Ожерелье голубки»
Часть первая
Рассказывают также, что один простак шел, держа в руке узду своего осла, которого он вел за собою.
Триста восемьдесят восьмая ночь Шахразады
Глава первая
Тридцать пятый год своей жизни Ходжа Насреддин встретил в пути.
Больше десяти лет провел он в изгнании, странствуя из города в город, из одной страны в другую, пересекая моря и пустыни, ночуя как придется – на голой земле у скудного пастушеского костра или в тесном караван-сарае, где в пыльной темноте до утра вздыхают и чешутся верблюды и глухо позвякивают бубенцами, или в чадной, закопченной чайхане, среды лежащих вповалку водоносов, нищих, погонщиков и прочего бедного люда, с наступлением рассвета наполняющего своими пронзительными криками базарные площади и узкие улички городов. Нередко удавалось ему ночевать и на мягких шелковых подушках в гареме какого-нибудь иранского вельможи, который как раз в эту ночь ходил с отрядом стражников по всем чайханам и караван-сараям, разыскивая бродягу и богохульника Ходжу Насреддина, чтобы посадить его на кол… Через решетку окна виднелась узкая полоска неба, бледнели звезды, предутренний ветерок легко и нежно шумел по листве, на подоконнике начинали ворковать и чистить перья веселые горлинки. И Ходжа Насреддин, целуя утомленную красавицу, говорил:
– Пора. Прощай, моя несравненная жемчужина, и не забывай меня.
– Подожди! – отвечала она, смыкая прекрасные руки на его шее. – Разве ты уходишь совсем? Но почему? Послушай, сегодня вечером, когда стемнеет, я опять пришлю за тобой старуху.
– Нет. Я уже давно забыл то время, когда проводил две ночи подряд под одной крышей. Надо ехать, я очень спешу.
– Ехать? Разве у тебя есть какие-нибудь неотложные дела в другом городе? Куда ты собираешься ехать?
– Не знаю. Но уже светает, уже открылись городские ворота и двинулись в путь первые караваны. Ты слышишь – звенят бубенцы верблюдов!.. Когда до меня доносится этот звук, то словно джинны вселяются в мои ноги, и я не могу усидеть на месте!
– Уходи, если так! – сердито говорила красавица, тщетно пытаясь скрыть слезы, блестевшие на ее длинных ресницах. – Но скажи мне хоть свое имя на прощание.
– Ты хочешь знать мое имя? Слушай, ты провела ночь с Ходжой Насреддином! Я Ходжа Насреддин, возмутитель спокойствия и сеятель раздоров, тот самый, о котором ежедневно кричат глашатаи на всех площадях и базарах, обещая большую награду за его голову. Вчера обещали три тысячи туманов, и я подумал даже – не продать ли мне самому свою собственную голову за такую хорошую цену. Ты смеешься, моя звездочка, ну, дай мне скорее в последний раз твои губы. Если бы я мог, то подарил бы тебе изумруд, но у меня нет изумруда, – возьми вот этот простой белый камешек на память!
Он натягивал свой рваный халат, прожженный во многих местах искрами дорожных костров, и удалялся потихоньку. За дверью громко храпел ленивый, глупый евнух в чалме и мягких туфлях с загнутыми кверху носами – нерадивый страж главного во дворце сокровища, доверенного ему. Дальше, врастяжку на коврах и кошмах, храпели стражники, положив головы на свои обнаженные ятаганы. Ходжа Насреддин прокрадывался на цыпочках мимо, и всегда благополучно, словно бы становился на это время невидимым.
И опять звенела, дымилась белая каменистая дорога под бойкими копытами его ишака. Над миром в синем небе сияло солнце; Ходжа Насреддин мог не щурясь смотреть на него. Росистые поля и бесплодные пустыни, где белеют полузанесенные песком верблюжьи кости, зеленые сады и пенистые реки, хмурые горы и зеленые пастбища слышали песню Ходжи Насреддина. Он уезжал все дальше и дальше, не оглядываясь назад, не жалея об оставленном и не опасаясь того, что ждет впереди.
А в покинутом городе навсегда оставалась жить память о нем.
Вельможи и муллы бледнели от ярости, слыша его имя; водоносы, погонщики, ткачи, медники и седельники, собираясь по вечерам в чайханах, рассказывали друг другу смешные истории о его приключениях, из которых он всегда выходил победителем; томная красавица в гареме часто смотрела на белый камешек и прятала его в перламутровый ларчик, услышав шаги своего господина.
– Уф! – говорил толстый вельможа и, пыхтя и сопя, начинал стаскивать свой парчовый халат. – Мы все вконец измучились с этим проклятым бродягой Ходжой Насреддином: он возмутил и взбаламутил все государство! Я получил сегодня письмо от моего старинного друга, уважаемого правителя Хорасанской округи. Подумать только – едва этот бродяга Ходжа Насреддин появился в его городе, как сразу же кузнецы перестали платить налоги, а содержатели харчевен отказались бесплатно кормить стражников. Мало того – этот вор, осквернитель ислама и сын греха, осмелился забраться в гарем хорасанского правителя и обесчестить его любимую жену! Поистине, мир еще не видывал подобного преступника! Жалею, что этот презренный оборванец не попытался проникнуть в мой гарем, а то бы его голова давным-давно торчала на шесте посредине главной площади!
Красавица молчала, затаенно улыбалась, – ей было и смешно и грустно. А дорога все звенела, дымилась под копытами ишака. И звучала песня Ходжи Насреддина. За десять лет он побывал всюду: в Багдаде, Стамбуле и Тегеране, в Бахчисарае, Эчмиадзине и Тбилиси, в Дамаске и Трапезунде, он знал все эти города и еще великое множество других, и везде он оставил по себе память.
Теперь он возвращался в свой родной город, в Бухару-и-Шериф, в Благородную Бухару, где рассчитывал, скрываясь под чужим именем, отдохнуть немного от бесконечных скитаний.
Глава вторая
Присоединившись к большому купеческому каравану, Ходжа Насреддин пересек бухарскую границу и на восьмой день пути увидел вдали в пыльной мгле знакомые минареты великого, славного города.
Хрипло закричали измученные жаждой и зноем караванщики, верблюды прибавили шагу: солнце уже садилось, и надо было спешить, чтобы войти в Бухару раньше, чем закроют городские ворота. Ходжа Насреддин ехал в самом хвосте каравана, окутанный густым, тяжелым облаком пыли; это была родная, священная пыль; ему казалось, что она пахнет лучше, чем пыль других, далеких земель. Чихая и откашливаясь, он говорил своему ишаку:
– Ну вот, мы наконец дома. Клянусь аллахом, нас ожидают здесь удача и счастье.
Караван подошел к городской стене как раз в ту минуту, когда стражники запирали ворота. «Подождите, во имя аллаха!» – закричал караван-баши, показывая издали золотую монету. Но ворота уже сомкнулись, с лязгом упали засовы, и часовые стали на башнях около пушек. Потянуло прохладным ветром, в туманном небе погас розовый отблеск, и ясно обозначился тонкий серп молодого месяца, и в сумеречной тишине со всех бесчисленных минаретов понеслись высокие, протяжные и печальные голоса муэдзинов, призывавших мусульман к вечерней молитве.
Купцы и караванщики стали на колени, а Ходжа Насреддин со своим ишаком отошел потихоньку в сторону.
– Этим купцам есть за что благодарить аллаха; они сегодня пообедали и теперь собираются ужинать. А мы с тобой, мой верный ишак, не обедали и не будем ужинать; если аллах желает получить нашу благодарность, то пусть пошлет мне миску плова, а тебе – сноп клевера!
Он привязал ишака к придорожному дереву, а сам лег рядом, прямо на землю, положив под голову камень. Глазам его открылись в темно-прозрачном небе сияющие сплетения звезд, и каждое созвездие было знакомо ему: так часто за десять лет он видел над собой открытое небо! И он всегда думал, что эти часы безмолвного мудрого созерцания делают его богаче самых богатых, и хотя богатый ест на золотых блюдах, но зато и ночевать он должен непременно под крышей, и ему не дано в полночь, когда все затихает, почувствовать полет земли сквозь голубой и прохладный звездный туман…
Между тем в караван-сараях и чайханах, примыкавших снаружи к зубчатой городской стене, загорелись костры под большими котлами, и жалобно заблеяли бараны, которых потащили на убой. Но опытный Ходжа Насреддин предусмотрительно устроился на ночлег с наветренной стороны, чтобы запах пищи не дразнил и не беспокоил его. Зная бухарские порядки, он решил поберечь последние деньги, чтобы заплатить утром пошлину у городских ворот.
Он долго ворочался, а сон все не шел к нему, и причиной бессонницы был вовсе не голод. Ходжу Насреддина томили и мучили горькие мысли, даже звездное небо не могло сегодня утешить его.
Он любил свою родину, и не было в мире большей любви у этого хитрого весельчака с черной бородкой на медно-загорелом лице и лукавыми искрами в ясных глазах. Чем дальше от Бухары скитался он в заплатанном халате, засаленной тюбетейке и порванных сапогах, тем сильнее он любил Бухару и тосковал по ней. В своем изгнании он все время помнил узкие улички, где арба, проезжая, боронит по обе стороны глиняные заборы; он помнил высокие минареты с узорными изразцовыми шапками, на которых утром и вечером горит огненный блеск зари, древние священные карагачи с чернеющими на сучьях огромными гнездами аистов; он помнил дымные чайханы над арыками, в тени лепечущих тополей, дым и чад харчевен, пеструю сутолоку базаров; он помнил горы и реки своей родины, ее селения, поля, пастбища и пустыни, и когда в Багдаде или в Дамаске он встречал соотечественника и узнавал его по узору на тюбетейке и по особому покрою халата, сердце Ходжи Насреддина замирало и дыхание стеснялось.
Вернувшись, он увидел свою родину еще более несчастной, чем в те дни, когда покинул ее. Старого эмира давно похоронили. Новый эмир за восемь лет сумел вконец разорить Бухару. Ходжа Насреддин увидел разрушенные мосты на дорогах, убогие посевы ячменя и пшеницы, сухие арыки, дно которых потрескалось от жары. Поля дичали, зарастали бурьяном и колючкой, сады погибали от жажды, у крестьян не было ни хлеба, ни скота, нищие вереницами сидели вдоль дорог, вымаливая подаяние у таких же нищих, как сами. Новый эмир поставил во всех селениях отряды стражников и приказал жителям бесплатно кормить их, заложил множество новых мечетей и приказал жителям достраивать их, – он был очень набожен, новый эмир, и дважды в год обязательно ездил на поклонение праху святейшего и несравненного шейха Богаэддина, гробница которого высилась близ Бухары. В дополнение к прежним четырем налогам он ввел еще три, установил плату за проезд через каждый мост, повысил торговые и судебные пошлины, начеканил фальшивых денег… Приходили в упадок ремесла, разрушалась торговля: невесело встретила Ходжу Насреддина его любимая родина.
…Рано утром со всех минаретов опять запели муэдзины; ворота открылись, и караван, сопровождаемый глухим звоном бубенцов, медленно вошел в город.
За воротами караван остановился: дорогу преградили стражники. Их было великое множество – обутых и босых, одетых и полуголых, еще не успевших разбогатеть на эмирской службе. Они толкались, кричали, спорили, заранее распределяя между собой наживу. Наконец из чайханы вышел сборщик пошлин – тучный и сонный, в шелковом халате с засаленными рукавами, в туфлях на босу ногу, со следами невоздержанности и порока на оплывшем лице. Окинув жадным взглядом купцов, он сказал:
– Приветствую вас, купцы, желаю вам удачи в торговых делах. И знайте, что есть повеление эмира избивать палками до смерти каждого, кто утаит хоть самую малость товара!
Купцы, охваченные смущением и страхом, молча поглаживали свои крашеные бороды. Сборщик повернулся к стражникам, которые от нетерпения давно уже приплясывали на месте, и пошевелил толстыми пальцами. Это был знак. Стражники с гиком и воем кинулись к верблюдам. В давке и спешке они перерубали саблями волосяные арканы, звучно вспарывали тюки, выбрасывали на дорогу парчу, шелк, бархат, ящики с перцем, чаем и амброй, кувшины с драгоценным розовым маслом и тибетскими лекарствами.
Леонид Васильевич Соловьев
Повесть о Ходже Насреддине #1
Ходжа Насреддин, веселый бродяга тридцати пяти лет от роду, в зените своей славы возвращается в Бухару. Он остр на язык и гибок умом, он любит простых людей и ненавидит несправедливость. Недаром от одного его имени трепещут правители средней Азии.
Но в родном городе его не ждет спокойная жизнь. Эмир Бухары и его приближенные не дают жизни своим подданным.
Первая книга Леонида Соловьева о похождениях веселого народного героя, основанная на народных анекдотах о великом защитнике простого люда Ходже Насреддине.
Леонид Васильевич Соловьев
Возмутитель спокойствия
Памяти моего незабвенного друга Мумина Адилова, погибшего 18 апреля 1930 года в горном кишлаке Нанай от подлой вражеской пули, посвящаю, благоговея перед его чистой памятью, эту книгу.
В нем были многие и многие черты Ходжи Насреддина – беззаветная любовь к народу, смелость, честное лукавство и благородная хитрость, – когда я писал эту книгу, не один раз мне казалось в ночной тишине, что его тень стоит за моим креслом и направляет мое перо.
Он похоронен в Канибадаме. Я посетил недавно его могилу; дети играли вокруг холма, поросшего весенней травой и цветами, а он спал вечным сном и не ответил на призывы моего сердца…
И сказал ему я: «Для радости тех, что живут со мною на земле, я напишу книгу, – пусть на ее листы не дуют холодные ветры времени, пусть светлая весна моих стихов никогда но сменяется унылой осенью забвенья!..» И – посмотри! – еще розы в саду не осыпались, и я еще хожу без клюки, а книга «Гюлистан», что значит «Цветник роз», уже написана мною, и ты читаешь ее…
Саади
Эту историю передал нам Абу-Омар-Ахмед-ибн-Мухаммед со слов Мухаммеда-ибн-Али-Рифаа, ссылавшегося на Али-ибн-Абд-аль-Азиза, который ссылался на Абу-Убейда-аль-Хасима-ибн-Селяма, говорившего со слов своих наставников, а последний из них опирается па Омара-ибн-аль-Хаттаба и сына его Абд-Аллаха, – да будет доволен аллах ими обоими!
Ибн-Хазм, «Ожерелье голубки»
Часть первая
Рассказывают также, что один простак шел, держа в руке узду своего осла, которого он вел за собою.
Триста восемьдесят восьмая ночь Шахразады
Глава первая
Тридцать пятый год своей жизни Ходжа Насреддин встретил в пути.
Больше десяти лет провел он в изгнании, странствуя из города в город, из одной страны в другую, пересекая моря и пустыни, ночуя как придется – на голой земле у скудного пастушеского костра или в тесном караван-сарае, где в пыльной темноте до утра вздыхают и чешутся верблюды и глухо позвякивают бубенцами, или в чадной, закопченной чайхане, среды лежащих вповалку водоносов, нищих, погонщиков и прочего бедного люда, с наступлением рассвета наполняющего своими пронзительными криками базарные площади и узкие улички городов. Нередко удавалось ему ночевать и на мягких шелковых подушках в гареме какого-нибудь иранского вельможи, который как раз в эту ночь ходил с отрядом стражников по всем чайханам и караван-сараям, разыскивая бродягу и богохульника Ходжу Насреддина, чтобы посадить его на кол… Через решетку окна виднелась узкая полоска неба, бледнели звезды, предутренний ветерок легко и нежно шумел по листве, на подоконнике начинали ворковать и чистить перья веселые горлинки. И Ходжа Насреддин, целуя утомленную красавицу, говорил:
– Пора. Прощай, моя несравненная жемчужина, и не забывай меня.
– Подожди! – отвечала она, смыкая прекрасные руки на его шее. – Разве ты уходишь совсем? Но почему? Послушай, сегодня вечером, когда стемнеет, я опять пришлю за тобой старуху.
– Нет. Я уже давно забыл то время, когда проводил две ночи подряд под одной крышей. Надо ехать, я очень спешу.
– Ехать? Разве у тебя есть какие-нибудь неотложные дела в другом городе? Куда ты собираешься ехать?
– Не знаю. Но уже светает, уже открылись городские ворота и двинулись в путь первые караваны. Ты слышишь – звенят бубенцы верблюдов!.. Когда до меня доносится этот звук, то словно джинны вселяются в мои ноги, и я не могу усидеть на месте!
– Уходи, если так! – сердито говорила красавица, тщетно пытаясь скрыть слезы, блестевшие на ее длинных ресницах. – Но скажи мне хоть свое имя на прощание.
– Ты хочешь знать мое имя? Слушай, ты провела ночь с Ходжой Насреддином! Я Ходжа Насреддин, возмутитель спокойствия и сеятель раздоров, тот самый, о котором ежедневно кричат глашатаи на всех площадях и базарах, обещая большую награду за его голову. Вчера обещали три тысячи туманов, и я подумал даже – не продать ли мне самому свою собственную голову за такую хорошую цену. Ты смеешься, моя звездочка, ну, дай мне скорее в последний раз твои губы. Если бы я мог, то подарил бы тебе изумруд, но у меня нет изумруда, – возьми вот этот простой белый камешек на память!
Он натягивал свой рваный халат, прожженный во многих местах искрами дорожных костров, и удалялся потихоньку. За дверью громко храпел ленивый, глупый евнух в чалме и мягких туфлях с загнутыми кверху носами – нерадивый страж главного во дворце сокровища, доверенного ему. Дальше, врастяжку на коврах и кошмах, храпели стражники, положив головы на свои обнаженные ятаганы. Ходжа Насреддин прокрадывался на цыпочках мимо, и всегда благополучно, словно бы становился на это время невидимым.
И опять звенела, дымилась белая каменистая дорога под бойкими копытами его ишака. Над миром в синем небе сияло солнце; Ходжа Насреддин мог не щурясь смотреть на него. Росистые поля и бесплодные пустыни, где белеют полузанесенные песком верблюжьи кости, зеленые сады и пенистые реки, хмурые горы и зеленые пастбища слышали песню Ходжи Насреддина. Он уезжал все дальше и дальше, не оглядываясь назад, не жалея об оставленном и не опасаясь того, что ждет впереди.
А в покинутом городе навсегда оставалась жить память о нем.
Вельможи и муллы бледнели от ярости, слыша его имя; водоносы, погонщики, ткачи, медники и седельники, собираясь по вечерам в чайханах, рассказывали друг другу смешные истории о его приключениях, из которых он всегда выходил победителем; томная красавица в гареме часто смотрела на белый камешек и прятала его в перламутровый ларчик, услышав шаги своего господина.
– Уф! – говорил толстый вельможа и, пыхтя и сопя, начинал стаскивать свой парчовый халат. – Мы все вконец измучились с этим проклятым бродягой Ходжой Насреддином: он возмутил и взбаламутил все государство! Я получил сегодня письмо от моего старинного друга, уважаемого правителя Хорасанской округи. Подумать только – едва этот бродяга Ходжа Насреддин появился в его городе, как сразу же кузнецы перестали платить налоги, а содержатели харчевен отказались бесплатно кормить стражников. Мало того – этот вор, осквернитель ислама и сын греха, осмелился забраться в гарем хорасанского правителя и обесчестить его любимую жену! Поистине, мир еще не видывал подобного преступника! Жалею, что этот презренный оборванец не попытался проникнуть в мой гарем, а то бы его голова давным-давно торчала на шесте посредине главной площади!
Красавица молчала, затаенно улыбалась, – ей было и смешно и грустно. А дорога все звенела, дымилась под копытами ишака. И звучала песня Ходжи Насреддина. За десять лет он побывал всюду: в Багдаде, Стамбуле и Тегеране, в Бахчисарае, Эчмиадзине и Тбилиси, в Дамаске и Трапезунде, он знал все эти города и еще великое множество других, и везде он оставил по себе память.
Теперь он возвращался в свой родной город, в Бухару-и-Шериф, в Благородную Бухару, где рассчитывал, скрываясь под чужим именем, отдохнуть немного от бесконечных скитаний.
Глава вторая
Присоединившись к большому купеческому каравану, Ходжа Насреддин пересек бухарскую границу и на восьмой день пути увидел вдали в пыльной мгле знакомые минареты великого, славного города.
Хрипло закричали измученные жаждой и зноем караванщики, верблюды прибавили шагу: солнце уже садилось, и надо было спешить, чтобы войти в Бухару раньше, чем закроют городские ворота. Ходжа Насреддин ехал в самом хвосте каравана, окутанный густым, тяжелым облаком пыли; это была родная, священная пыль; ему казалось, что она пахнет лучше, чем пыль других, далеких земель. Чихая и откашливаясь, он говорил своему ишаку:
– Ну вот, мы наконец дома. Клянусь аллахом, нас ожидают здесь удача и счастье.
Караван подошел к городской стене как раз в ту минуту, когда стражники запирали ворота. «Подождите, во имя аллаха!» – закричал караван-баши, показывая издали золотую монету. Но ворота уже сомкнулись, с лязгом упали засовы, и часовые стали на башнях около пушек. Потянуло прохладным ветром, в туманном небе погас розовый отблеск, и ясно обозначился тонкий серп молодого месяца, и в сумеречной тишине со всех бесчисленных минаретов понеслись высокие, протяжные и печальные голоса муэдзинов, призывавших мусульман к вечерней молитве.
Купцы и караванщики стали на колени, а Ходжа Насреддин со своим ишаком отошел потихоньку в сторону.
– Этим купцам есть за что благодарить аллаха; они сегодня пообедали и теперь собираются ужинать. А мы с тобой, мой верный ишак, не обедали и не будем ужинать; если аллах желает получить нашу благодарность, то пусть пошлет мне миску плова, а тебе – сноп клевера!
Он привязал ишака к придорожному дереву, а сам лег рядом, прямо на землю, положив под голову камень. Глазам его открылись в темно-прозрачном небе сияющие сплетения звезд, и каждое созвездие было знакомо ему: так часто за десять лет он видел над собой открытое небо! И он всегда думал, что эти часы безмолвного мудрого созерцания делают его богаче самых богатых, и хотя богатый ест на золотых блюдах, но зато и ночевать он должен непременно под крышей, и ему не дано в полночь, когда все затихает, почувствовать полет земли сквозь голубой и прохладный звездный туман…
Между тем в караван-сараях и чайханах, примыкавших снаружи к зубчатой городской стене, загорелись костры под большими котлами, и жалобно заблеяли бараны, которых потащили на убой. Но опытный Ходжа Насреддин предусмотрительно устроился на ночлег с наветренной стороны, чтобы запах пищи не дразнил и не беспокоил его. Зная бухарские порядки, он решил поберечь последние деньги, чтобы заплатить утром пошлину у городских ворот.
Он долго ворочался, а сон все не шел к нему, и причиной бессонницы был вовсе не голод. Ходжу Насреддина томили и мучили горькие мысли, даже звездное небо не могло сегодня утешить его.
Он любил свою родину, и не было в мире большей любви у этого хитрого весельчака с черной бородкой на медно-загорелом лице и лукавыми искрами в ясных глазах. Чем дальше от Бухары скитался он в заплатанном халате, засаленной тюбетейке и порванных сапогах, тем сильнее он любил Бухару и тосковал по ней. В своем изгнании он все время помнил узкие улички, где арба, проезжая, боронит по обе стороны глиняные заборы; он помнил высокие минареты с узорными изразцовыми шапками, на которых утром и вечером горит огненный блеск зари, древние священные карагачи с чернеющими на сучьях огромными гнездами аистов; он помнил дымные чайханы над арыками, в тени лепечущих тополей, дым и чад харчевен, пеструю сутолоку базаров; он помнил горы и реки своей родины, ее селения, поля, пастбища и пустыни, и когда в Багдаде или в Дамаске он встречал соотечественника и узнавал его по узору на тюбетейке и по особому покрою халата, сердце Ходжи Насреддина замирало и дыхание стеснялось.
Вернувшись, он увидел свою родину еще более несчастной, чем в те дни, когда покинул ее. Старого эмира давно похоронили. Новый эмир за восемь лет сумел вконец разорить Бухару. Ходжа Насреддин увидел разрушенные мосты на дорогах, убогие посевы ячменя и пшеницы, сухие арыки, дно которых потрескалось от жары. Поля дичали, зарастали бурьяном и колючкой, сады погибали от жажды, у крестьян не было ни хлеба, ни скота, нищие вереницами сидели вдоль дорог, вымаливая подаяние у таких же нищих, как сами. Новый эмир поставил во всех селениях отряды стражников и приказал жителям бесплатно кормить их, заложил множество новых мечетей и приказал жителям достраивать их, – он был очень набожен, новый эмир, и дважды в год обязательно ездил на поклонение праху святейшего и несравненного шейха Богаэддина, гробница которого высилась близ Бухары. В дополнение к прежним четырем налогам он ввел еще три, установил плату за проезд через каждый мост, повысил торговые и судебные пошлины, начеканил фальшивых денег… Приходили в упадок ремесла, разрушалась торговля: невесело встретила Ходжу Насреддина его любимая родина.
…Рано утром со всех минаретов опять запели муэдзины; ворота открылись, и караван, сопровождаемый глухим звоном бубенцов, медленно вошел в город.
За воротами караван остановился: дорогу преградили стражники. Их было великое множество – обутых и босых, одетых и полуголых, еще не успевших разбогатеть на эмирской службе. Они толкались, кричали, спорили, заранее распределяя между собой наживу. Наконец из чайханы вышел сборщик пошлин – тучный и сонный, в шелковом халате с засаленными рукавами, в туфлях на босу ногу, со следами невоздержанности и порока на оплывшем лице. Окинув жадным взглядом купцов, он сказал:
– Приветствую вас, купцы, желаю вам удачи в торговых делах. И знайте, что есть повеление эмира избивать палками до смерти каждого, кто утаит хоть самую малость товара!
Купцы, охваченные смущением и страхом, молча поглаживали свои крашеные бороды. Сборщик повернулся к стражникам, которые от нетерпения давно уже приплясывали на месте, и пошевелил толстыми пальцами. Это был знак. Стражники с гиком и воем кинулись к верблюдам. В давке и спешке они перерубали саблями волосяные арканы, звучно вспарывали тюки, выбрасывали на дорогу парчу, шелк, бархат, ящики с перцем, чаем и амброй, кувшины с драгоценным розовым маслом и тибетскими лекарствами.