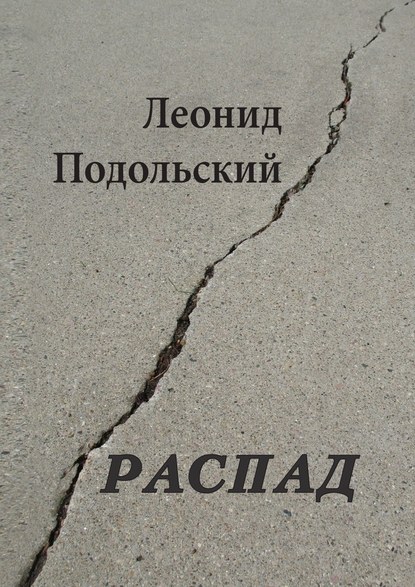По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Распад
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Толпа схлынула. Евгения Марковна осталась в институтском вестибюле одна.
– Постарайся наладить с ним отношения, – машинально повторила она слова Николая Григорьевича, и вдруг все неприятности сегодняшнего дня снова нахлынули на неё. Ей захотелось разрыдаться, как не рыдала целых тридцать пять лет – с того дня в общежитии в Уфе, когда она сидела в холодной, нетопленной, тесно заставленной кроватями комнате одна и читала – в сотый, а может быть, в тысячный раз, последнее письмо отца. Папа написал его в первые дни войны. Письмо было торопливое, сумбурное. Отец ничего ещё не знал, и написал на всякий случай, что они будут эвакуироваться и обещал через пару дней написать снова, уточнив пункт эвакуации. Это письмо, Хотя кругом рвались бомбы, взлетали на воздух поезда, горели города и умирали люди, это письмо дошло до неё и вот, Женя держала его в руках, перечитывала в который уже раз эти несколько последних отцовских строчек, и вдруг поняла, почувствовала душой, потому что знала и раньше, что это – последнее письмо, что больше писем ни от папы, ни от мамы не будет, никогда не будет – и она зарыдала, спазмы сдавили её до тошноты, до истерики, она никак не могла остановиться. Только время от времени, когда рыдание ослабевало, Женя целовала это последнее письмо и снова содрогалась от рыданий. Видно, тогда она так выплакалась, что потом никогда уже не было у неё таких слёз, к тому же и очерствела со временем. Но в тот день, когда хоронили Постникова, и она, в полном одиночестве, осталась в огромном институтском вестибюле – мгновенно отрезанный ломоть, мгновенно выброшенная, исторгнутая из сцепленного людского роя (a может, и раньше сила сцепления была так же ничтожно мала, но она в гордыне своей не замечала?), а с улицы через раскрытые двери доносился неясный, суетливый шум толпы, гул заводимых моторов, и вслед за ним, перекрывая этот шум, загремел похоронный марш, не только Постникова, но и её отрезая от живых, спазм сжал ей горло, и слёзы, две маленькие одинокие слезинки, покатились по её щекам.
Музыка медленно отдалялась. Шум на улице затихал. Те, кому не хватило места в автобусах, возвращались назад. И Евгения Марковна, чтобы никого не видеть, ни с кем не говорить, побыстрее вернулась в кабинет, закрыла за собой дверь, и снова, как утром, рухнула в кресло. К горлу всё ещё подступала тошнота, в висках стучало. Она с отвращением посмотрела в окно, на убогий институтский двор: унылое царство асфальта и камня, глухой забор, мрачное, почерневшее от времени здание вивария, бензиновая лужа перед самым окном, жалкие, полузасохшие деревца. Обыкновенный тюремный двор, а может, ещё хуже. Чувство тошноты усилилось.
Нехорошо получилось, что она не поехала на кладбище. Но никто не предложил ей место в автомобиле, а ехать в битком набитом автобусе Евгении Марковне было не к лицу. Да и ни к чему. И вообще всё, что бы она ни сделала сейчас, было ни к чему. Произошла катастрофа. Это был конец – растянутый на годы, но конец. Благополучие закончилось. Начинался распад. Вопреки всем законам диалектики, вопреки роли личности в истории. Стоило лишь умереть одному человеку. Сердце оказалось вещее, сердце знало, предчувствовало ещё в поезде. Это потом она забудет, и снова станет цепляться за жизнь, и снова захочет верить, или, вернее, забыться, не чувствовать ощущать катастрофу… – и даже Она забудется, и даже получит отсрочку, но в тот момент она поняла – конец…
– Постарайся наладить отношения с Чудновским, – повторила про себя Евгения Марковна. Слова эти были пусты и одновременно многозначительны, и имели только один смысл: он, Николай, отстранялся от их старой дружбы. Словно он уже оплатил свой долг. Вечный долг. Негодяй…
– Ну, это мы еще посмотрим. На сей раз так просто у него не получится. Убийца… Он думает, что я ему простила…
Застарелая ненависть колыхнулась в ней снова… Но тогда, да, тогда она ещё не умела (ведь не было ещё всех этих лет беспрерывных, мелких и больших, настоящих и выдуманных унижений, когда душа как кровоточащая рана, и сама, как загнанный на охоте зверь), да, не умела, как сейчас, ненавидеть… и Чудновского… и Колю… всех… и оттого очень скоро успокоилась, и в самом деле стала думать, что надо бы попробовать наладить отношения. Для начала хотя бы позвонить Чудновскому и выразить пожелание, чтобы в этот трудный для Института час он взял бразды правления в свои руки. Пообещать ему свою полную поддержку. В сущности, это никак не повлияет на его назначение. И всё ещё, может, образуется…
Но это была химера. И она осознавала, что химера, потому что никогда не сможет позвонить… Да Чудновский и не станет слушать. Он слишком большой человек теперь. Несоизмеримо большой. Карлик, превратившийся в великана…
Так и сидела она, то погружаясь в мечты, то в ненависть, то забываясь в фантазиях, то снова возвращаясь в реальность. Сколько времени прошло, час, два, три? – когда в дверь неожиданно постучали. Это был Юрий Борисович Моисеев, старший научный сотрудник и доверенное лицо Евгении Марковны.
Он вошел, как всегда, бочком, словно робея перед ней.
– Я только с похорон, Евгения Марковна. Жутко все устроили. Нетактично. И речи, и давка ужасная. Я хотел вам сказать, мы все были возмущены выступлением Чудновского.
– Что говорят?
– Вчера Лаврентьев с Семеновым (секретарь партбюро) ездили к Чудновскому. Целый час просидели в приемной. И еще Шухов увязался с ними.
– Просили на престол?
– Чудновский, говорят, ничего определённого не сказал.
– Набивает себе цену. А что у нас?
– Да так, ничего особенного. Белогородский, кажется, ищет место старшего на стороне. На днях его видели в институте у Чернова. Потапов опять запорол несколько кроликов. Я специально смотрел, как он работает. Новый метод у него не идет.
Евгения Марковна досадливо поморщилась. Ей сейчас было не до Потапова.
– Спасибо, Юрий Борисович. У меня что-то болит голова.
– Да, я понимаю. Только с дороги, а здесь такое, – он вздохнул, осторожно открыл дверь, и бочком, как стоял, выскользнул в коридор.
ГЛАВА 8
– Ещё один удар, – с горечью отметила Евгения Марковна, едва за Юрием Борисовичем закрылась дверь. Теперь, как рефери на ринге, она повторила эту фразу снова.
Сейчас в том, что Игорь Белогородский, честолюбец и эгоист, уже тогда искал место – корабль ещё не дал течь, а он уже торопился его покинуть, – не было для Евгении Марковны ничего удивительного. Именно так и должно было быть. Им, этим молодым, не идея и не дело важны, а место. Её поколение было совсем иным. На нём лежал отблеск, неугасимый свет, ещё неиссякшая энергия революции и победы, а эти – конформисты и предатели, в них – уже не энергия, а усталая, на излёте, инерция истории, инерция разочарования. Безгласые, пришедшие слишком поздно, когда все лучшие места оказались заняты, а жизнь, хорошо ли, плохо ли, но раз и навсегда отлажена, минуя настоящее, с уныло копошащимися в нём людишками, из героического прошлого медленно перетекала в сверкающее фантастическое будущее, они только и умеют, что ловчить…
Но тут же, сквозь это старческое, брюзжащее, – да так ли они плохи? И разве Шухов – не её поколение? Ну, если не её, так перед ним. И те, другие, сажатели, истязатели, подлецы и негодяи – на них разве не падал свет?..
Но это сейчас, когда она – безнадежно поздно – умудрена опытом прожитых лет, поражений и тоскливых одиноких вечеров, в сущности, ненужным опытом (ведь всё равно отлучена и заключена в вакуум), она знает, что так и должно было быть. Но тогда это был удар, один из множества свалившихся на неё ударов. Значит, Игорь Белогородский уже не верил в неё, не верил её обещаниям и поставил на ней крест…
С клинической группой Евгении Марковне не везло с самого начала. Впрочем, не везло – не то слово; не повезти может в разумном начинании, здесь же с самого начала была авантюра. Вернее, вначале была мечта, а из этой мечты, как это нередко случается, выросла авантюра, «большой скачок», как съязвил однажды главный институтский острослов Ройтбак.
До поры до времени она свою мечту скрывала, потом решилась поговорить с Постниковым, но Евгений Александрович воспротивился наотрез.
– Занимайтесь своим делом. В клинике вам делать нечего, – непривычно резко оборвал он. Пожалуй, приревновал даже. На том бы все и закончилось, но…
Евгения Марковна уже была исполняющей обязанности замдиректора, когда в Институт пришла телефонограмма. Рекомендовалось, а может, и приказывалось, – Евгения Марковна сейчас не помнит точно, – Институту выступить с почином. А Постникова как раз не было. Он бы, может, воспротивился и все уладил, он вообще не любил шумиху, но Евгении Марковне это оказалось в самый раз. Оставалось лишь собрать назначить день собрания, произнести заготовленные речи, и вот уже почин готов: «Ни одного изобретения без внедрения!». Почин, в общем-то, обыкновенный, но тут, одобренный кем-то свыше, почин подхватили, зашумели, взвизгнули фанфары газетного восторга, начались интервью и встречи с общественностью. Фотография Евгении Марковны, в целый разворот, появилась в журнале, правда, в самый последний момент, едва не став телезвездой, профессор Маевская должна была отойти в тень, уступив место вернувшемуся раздосадованному Постникову. Впрочем, к тому времени кампания уже шла на убыль. Внедрять оказалось нечего, да и сложно. Газеты, наскучив писать о внедрении, накинулись на новый, ещё более обещающий почин: «Рабочей инициативе инженерную поддержку», а о прежнем почине, сразу потерявшем актуальность, негласно велено было забыть.
Казалось, можно перевести дыхание и заняться делом, но вот тут-то только и стало ясно, что запущен был не обыкновенный мыльный пузырь, а выпущен из бутылки джин, что реакция цепная и вышла из-под контроля. На Институт началось нашествие. Тысячи больных, родственников больных и просто любителей лечиться, впервые прослышавших про Институт, про спазмолитин и другие, созданные в Институте чудеса, устремились со всех сторон. В регистратуру с вечера выстраивались длинные очереди, как к мавзолею, за ночь страсти накалялись до предела, какие-то тёмные личности тут же в очереди торговали спазмолитином и мумиё, другие распространяли адреса знаменитых экстрасенсов и знахарей, толпа бушевала, кричала, не пропускала в двери сотрудников, требовала исполнить обещания, или хотя бы проявить милосердие. Но Институт оказался не готов: пугливо ощетинивался наглухо занавешенными окнами и вызванной на подмогу милицией; без направлений из министерства не принимали, и всё равно регистратура задыхалась, с регистраторшами чуть ли не ежедневно случались обмороки, то и дело вспыхивали скандалы – не Институт, а осаждённая крепость. Но даже сквозь заслон милиции прорывались страждущие. Смяв или подкупив вахтёра, они заполоняли приёмные, мешались, толкались, подкарауливали сотрудников на лестницах и даже в туалетах. К тому же, ежеминутно раздавались звонки, и по телефону тоже просили, умоляли, требовали, или распоряжались сверху. К полудню секретарши впадали в истерику, проклинали Евгению Марковну вместе с её рекламой и одна за другой грозились уволиться. Но еще хуже – письма. Их приходили неисчислимые тысячи, а между тем неясно было, кто должен на них отвечать. И пока между канцелярией и лечебной частью велись безнадёжные дискуссии, пока набирали штаты, пока обдумывали, что отвечать и согласовывали единую форму ответа, а потом утверждали эту форму в инстанциях, письма продолжали поступать как из кастрюли-скороварки – заваливали шкафы, столы, неразобранными грудами валялись на полу.
Негде становилось работать. Среди писем пропадали разные бумаги, приказы и инструкции, так что Постникову пришлось распорядиться все документы дублировать, и тогда с бумагами окончательно запутались. Институт оказался парализован, – требовались срочные меры, и Постников вынужден был просить райком разрешить вместо овощной базы отправлять сотрудников на разборку писем. Но и этого оказалось мало. Пришлось для каждой лаборатории установить специальные дни. Сотрудники роптали, раскладывали письма по ящикам, но что делать с ящиками дальше, никто не знал; пока же складывали их в подвале.
Но что письма – мелочь по сравнению с жалобами. Между тем, количество жалоб катастрофически росло, и вслед за жалобами на Институт низверглись комиссии. Их было так много, что работать стало окончательно невозможно. Орденами и медалями тут и не пахло. Требовалось срочно, любой ценой остановить поток.
Разъярённый Постников ежедневно вызывал на ковер Евгению Марковну.
– Вот вам ваша реклама! Заварили кашу, теперь расхлёбывайте! – нервно кричал он, топая ногами.
Но и Евгения Марковна при всей своей инициативности и сообразительности долго не могла ничего придумать. Не давать же в газеты опровержение, что с изобретениями дела в Институте обстоят из рук вон, что спазмолитин – обыкновенное плацебо[19 - Плацебо – неактивный в фармакологическом отношении препарат, используемый для учета психотерапевтического эффекта.], а внедрение существует только на бумаге. Но, в конце концов, её осенило. Volens nolens[20 - volens nolens – волей неволей (лат.).], приходилось идти ва-банк. Так уж нужно было пойти крупно, по-деловому, как умел, пожалуй, один Чудновский. Идея и в самом деле была блестящая. Разработать «Комплексную Программу развития науки и внедрения в здравоохранение на ближайшую четверть века и вплоть до двухтысячного года», и выйти с ней в Академию, а если удастся, то и ещё выше. Естественно, под эту Программу Евгения Марковна рассчитывала выбить валюту и ставки. Появились бы новые статьи в газетах, новые решения и постановления, так что о прежних обещаниях можно было бы спокойно забыть. А если бы и вспомнил кто, так проще простого списать на перестройку, на гигантские перспективы и на будущее. К тому же, казалось, и риска никакого. До двухтысячного года сто раз забудут, да и спрашивать станет не с кого.
Но, увы, это только казалось так. Потому что в большой игре – свои правила, а она, дилетантка, не знала их. Не в свои сферы совалась, и оттого её ожидало поражение. Что можно Юпитеру, того нельзя быку.
Первый же раунд она проиграла. В Институте никто к Программе не отнёсся всерьез. «Нынешнее поколение будет жить при Программе», – под смех присутствующих заявил с трибуны институтский острослов Ройтбак, а в кулуарах, и того чище, вспоминали молоко и мясо[21 - Вспоминали молоко и мясо – во второй половине 50-х годов была выдвинута волюнтаристская программа обогнать США по производству на душу населения молока и мяса.]. Впрочем, бог с ними, на шутки она умела смотреть сквозь пальцы. Шутить шутили, но планы всё-таки составляли, и вовсе неплохие планы – выйти на передовые рубежи науки, оставить далеко позади инофирмы. Лишь один смутьян Ройтбак снова отличился, пообещав двадцатикратный прирост продукции при шестнадцатикратном увеличении количества докторов наук. Да ещё и на этом не успокоился, запланировав испытывать препараты, которые и в планах у разработчиков не стояли, и свойствами обладали совершенно невиданными, к тому же и названия дал им непроизносимые, что-то вроде идиотина и жопапиперазина. Поговаривали даже, будто он с кем-то заключил пари. Впрочем, мелок, и смеялся мелко. Что же она – разве сама не понимала? Но тут – политика. Игра. Только вот, правил она ещё не знала. Что для такой игры волосатая рука нужна. А так, как волосатая рука, дилетантство, а не игра. То есть Программу утвердили, причём очень даже быстро. Можно сказать, почти и не рассматривали. Но вот в чём соль – валюту и ставки урезали под самый корень. Словом – блеф. Играли по правилам абсурда. Её же хитрость против неё и обернулась. Программу-то нужно выполнять. Нелепость, если под нею закорючка – уже закон. Но и она уже была не та. Начинала понимать правила. Банк сорвать ей, конечно, не по силам, так хоть мелкую взятку взять во исполнение Программы. Под барабанный бой, с треском, её лаборатория была переименована в отдел. По Институту, невзирая на ропот – вот вам, будете в другой раз смеяться – кое-как наскребли ставки; и вот уже создана клиническая группа, «полигон», как любила торжественно выражаться Евгения Марковна, предназначенный для внедрения теоретических разработок в практику.
Вот только теперь, когда приказ был подписан, она впервые задумалась по-настоящему, а что ей с этой группой делать? Таковы уж, видно, были кипучие свойства её натуры. Да и её ли только? Вполне отечественные это свойства: организовывать, преобразовывать, обещать, хлопотать, призывать, выдвигать лозунги, к чему-то стремиться, чего-то хотеть, не зная, в сущности, чего именно. Некоего дела – для дела, реорганизации – для реорганизации, инициативы – для инициативы, шума и разговоров – ради шума и разговоров. Но в том-то и оказалось существо момента, что на сей раз желания Евгении Марковны совпали, вошли в резонанс с желаниями Самого Высокого начальства. Нужно было тем, на Западе, показать Кузькину мать[22 - Кузькина мать – идиоматическое выражение И.С.Хрущева.]. На сей раз её поддержали и полуустранившийся от дел Постников, торопившийся поскорее отрапортовать о принятых мерах, и Николай Григорьевич – этот на правах Учёного секретаря Академии, старого друга и бывшего любовника. И ещё выше, и ещё – там тоже находились свои отчётно-бюрократические резоны. А уж на Самом Верху и Институт, и Евгения Марковна со своим отделом и своей суетливой энергией казались не больше, чем козявками. Там, пожалуй, подписывали не глядя. Впрочем, по мере того, как необходимые бумаги всё выше вскарабкивались наверх, они обрастали всё большими ограничениями. Там знали, что валюты нет. «Орлы за облаками валюту поклевали, куда уж с ними нашей курице» – это опять острослов Ройтбак.
Да, вот теперь-то и оказалось, что никакой настоящей идеи нет. Евгения Марковна далека все годы была от клиники, да и внедрять ей оказалось абсолютно нечего. Пришлось элементарно набирать статистику, изучать проблему с самого начала, повторяя старые, тридцатилетней давности, работы профессора Бессеменова, благо к тому времени, не без заслуги Евгении Марковны, о них почти никто не помнил.
Так что, когда два года спустя Игорь Белогородский поступал к профессору Маевской в аспирантуру, клиническая группа влачила жалкое существование, а сотрудники там постоянно менялись. Да и тема, которую Евгения Марковна ему предложила, отнюдь не была выигрышной. Но Игорь, со своим рациональным умом, сумел довольно быстро наладить дело. К тому же, вскоре у него появились свои соображения. Он оказался отличным организатором, и почти без помощи Евгении Марковны сумел точно в срок закончить неплохую диссертацию. Вот тогда-то, даже ещё до защиты, профессор Маевская и пообещала ему должность старшего научного сотрудника и руководителя этой самой группы. Она и в самом деле разговаривала с Постниковым, но Постников дипломатично отправил её похлопотать в Академию, к Николаю Григорьевичу.
К тому времени её отношения с Головиным не были такими близкими, как раньше, прежние воспоминания давно померкли, да и не стоило злоупотреблять его дружбой. Николай Григорьевич и так немало сделал для неё, но другого выхода Евгения Марковна не видела. Однако на сей раз он даже не дослушал её до конца.
– Как ты говоришь, Белогородский? – перебил он Евгению Марковну на полуслове. – Это не у него ли был отец-профессор?
Евгения Марковна кивнула.
– Ну, вот видишь, положение сейчас сложное. Сама, не хуже меня, понимаешь.
– А когда оно не было сложным, Коля? Я что-то такого не помню. Что же ему, уезжать?
Но Николай Григорьевич не обратил внимания на её реплику.
– Говорят, что твой отдел ничего не даёт практическому здравоохранению. На Постникова тебе сейчас рассчитывать не приходится. Стар и болен. Будь благоразумна, сиди тише. Ты и так многого добилась.
– Кто это всё говорит, Коля? Чудновский? – дело заключалось не только в Белогородском, но в принципе. В таких случаях Евгения Марковна никогда не отступала, и никакие доводы Николая Григорьевича, старого дипломата и провидца, её ни в чём не смогли переубедить. Она решила обратиться прямо в президиум Академии. Но, увы, как и предсказывал Николай Григорьевич, ничего из этого у неё не вышло. Евгения Марковна лишь убедилась, что руководство Академии настроено против неё. Работа отдела подверглась уничтожающей критике. От Евгении Марковны потребовали дать, наконец, конкретный практический выход. А о Белогородском и слушать не стали, такие мелочи их не интересовали. И, хоть при разговоре присутствовали всего три человека, причём третьей была сама Евгения Марковна, уже через день о её поражении узнали все.
А первым, конечно, узнал таинственный аноним, злобный, завистливый недруг, недремлющее, всевидящее око. Он, этот аноним, счел момент благоприятным и нанёс жестокий, точно рассчитанный удар, отправив по инстанциям сразу две грязных анонимки. Впрочем, хоть и грязных, и пропитанных ядом, однако, не вполне безосновательных, как должна была признаться себе Евгения Марковна. Аноним утверждал, что профессор Маевская вовсе не ученая, а лишь обыкновенный схоласт, а её теория – давно опрокинутый наукой бред, за который цепляется только она сама, плод необузданной фантазии, раздутого тщеславия и мелкой нечистоплотности (тут же многочисленные факты и фамилии; даже про неопубликованные работы Жени Кравченко аноним знал), что профессор Маевская преследовала всех, кто был не согласен с её лжетеорией, не пощадила даже имя и добрую память покойного профессора Бессеменова, выдающегося ученого и истинного подвижника, которому столь многим была обязана, и чьи работы она в последнее время беззастенчиво повторяет. И опять факты, и даже цитаты. Далее следовали фамилии несостоявшихся по её вине кандидатов наук, и в разное время из-за несогласия ушедших от неё сотрудников – иные судьбы, как у Жени Кравченко, оказались изломаны, и сколько было в журналах не опубликовано по её вине статей. Но и этого мало. От всевидящего ока анонима не укрылось, что многие работы в её отделе – липа, а другие – бесконечные повторения, основанные на одних и тех же данных.
А дальше, войдя во вкус и ещё сильнее распалившись, этот таинственный злобный недруг с яростным сарказмом обрушился на деяния Евгении Марковны на посту заместителя директора. Выдвинув красивый лозунг «Ни одного изобретения без внедрения!», она не только ничего не изобрела и не внедрила, но ещё и с остервенением мешала внедрять другим. Ценные препараты, чуть ли не десять лет назад разработанные в Институте, до сих пор так и не были внедрены в производство, хотя внедрение их значится во всех отчётах, а работы доктора биологических наук Ройтбака не могли быть завершены, так как профессор Маевская забрала себе предназначенное для него оборудование (и ведь было, было!), зато всего за два с половиной года она за счет других лабораторий полностью переоборудовала свой отдел. А командировки за границу… Достаточно сказать, что за два года профессор Маевская буквально исколесила пол-Европы, не поставив при этом ни одного эксперимента и подписав лишь один договор, так что в поездках этих не было никакой нужды, разве что ей срочно требовалось за счет командировочных пополнить собственный гардероб в фешенебельных магазинах Вены, Берлина, Будапешта, Праги и Варшавы. Да и вообще, не мешало бы выяснить, с кем она встречалась в Вене, превращённой, как известно, сионистами в крупный перевалочный пункт[23 - В 60-70-е годы еврейские эмигранты, выезжающие из СССР, на некоторое время поселялись в Вене, где решался вопрос о дальнейшей эмиграции – в США или в Израиль.]. Мало того, она не только ездила за границу сама, но и без особой нужды посылала своих сотрудников и приятелей – платила замаскированные взятки из государственного кармана за их поддержку и покорность.