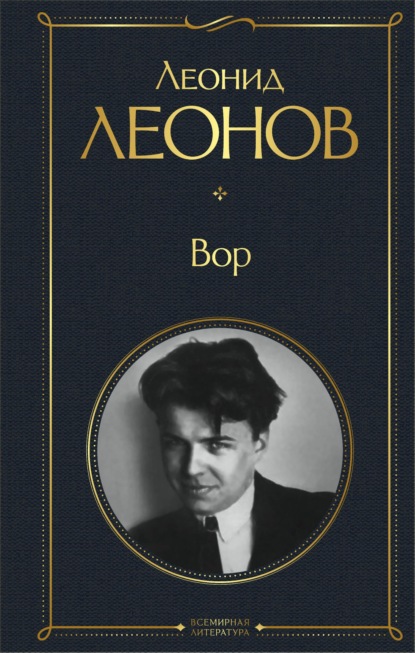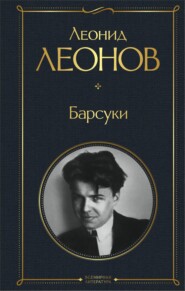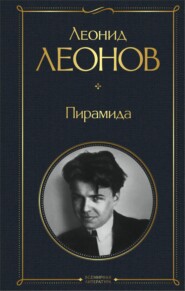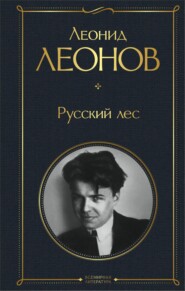По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Молчание брата пробудило затихавшие было в ней подозренья. Еще больше шубы не нравились ей вызывающие Митькины бачки на щеках. Первые впечатления были так тягостны, что Таню порадовала даже сохранившаяся у брата способность к смущенью. Их сближение подвигалось трудно и медленно.
IX
Она сама потребовала у Митьки продолжения их беседы, и брат согласился не сразу: не было уверенности, отнесется ли сестра достаточно снисходительно к его житейским промахам. Поджидая ее в пивной и глядя на себя со стороны, он сжался при мысли, насколько огрубел в своем новом звании, назначая Таньке, сестренке, да еще после такой разлуки, местом второй встречи пивную на далекой Благуше. Таня не рискнула добираться сюда в одиночку, по улице прохаживался тот самый высокий, статный, молодой, с бесцветным волевым взором и, как с необъяснимой жалостью к сестре сообразил Митька, всего лишь партнер по номеру или цирковой товарищ. Танина провожатого Митька приглашал не очень настойчиво, и тот покинул их на ближайшем перекрестке, впрочем после Митькина обещания невредимой доставить ее домой.
Они пошли вдоль глухой окраинной улицы, прямо по мостовой, сплетя пальцы, стремясь как-нибудь восстановить утраченные связи. Погода не благоприятствовала ночной прогулке: над самыми крышами зима перетаскивала на новоселье свою мокрую рухлядь, дул круговой какой-то ветер, давешний снегопад сменялся изморосью. Разгоряченные дорогими воспоминаниями, брат и сестра сперва не замечали непогоды.
– Тебе не холодно в твоей одежке? – спохватившись, спросил Митька.
– Я закаленная… Но куда же ты меня ведешь?
– Из-за ремонта ко мне нельзя сейчас… Погоди, я покажу тебе одного хорошего человека, – забормотал Митька, увлекая сестру вниз по улице. – Не спросил в прошлый раз, как там, дома-то, все живы?.. что, что ты говоришь?
– Ты все забыл, Митя! Откуда мне знать, ведь я же раньше тебя ушла из семьи… вспомнил теперь?
– Я переписку имел в виду.
– Нет, я не писала туда ни разу, – резко созналась она и выпустила разжавшуюся Митькину руку. – Не писала, да и незачем! Все отболело, прошло, мне больше не нужно.
Самонадеянный холодок ее признанья ненадолго остудил в Митьке радость общения с лучшим другом детства. Танину усталость и боль он принял за непростительное равнодушие к родному гнезду. В противоположность сестре и несмотря на внешнее сходство их начальных судеб, Митьке дорог был теперь отчий дом. И чем глубже падал он, тем священней мнилось сердцу это как бы закатным багрецом залитое место, куда в последний, уже нестерпимо черный день, кинув все, можно войти без предупреждения и молча рухнуть кому-то в колени и отдохнуть. Тихая, нетленная точка на земле, откуда впервые увидел мир с его добрым и старым солнцем!
– А про галчонка помнишь? Как ты ему подбитую лапу лечила?
– Совсем выпало из памяти… Когда же это?
– Ну, мы за малиной на Большие Поруби отправились и в канаве его нашли, затаился… – Он осекся, в замешательстве потирая лоб. – Прости, это не с тобой было. Это Маша его вылечила, а не ты…
Так старался он оживить в памяти угасавшие подробности детства со смутной надеждой, что самое обращенье к ним поможет ему начать себя заново.
…Беседа их происходила уже возле самой пчховской мастерской, – единственно безопасное место от пристальных, нежелательных глаз.
…Старый слесарь собирался ложиться, когда к нему постучали. Митьку он не вдруг признал в потемках сеней – лишь когда тот стал знакомить его с сестрой. У Тани немножко посветлело на душе при мысли, что хоть кому-то на свете посещение брата может доставить такую радость. Держа Митьку за плечи, благушинский мастер тряс его и вглядывался из-под тяжких бровей, одаривая отеческой лаской.
– Ничего, хожу пока, Пчхов, не сбылись еще твои пророчества. Кто у тебя там? – Он встревоженно кивнул на соседнюю каморку за китайчатой занавеской, откуда послышалась мужская, сквозь сон, бормотня.
– Племянничка из деревни бог послал, – неохотно пояснил Пчхов. – Нагулялся, спит.
Так они искали друг в друге перемен, находили и великодушно замалчивали их. Пчховский взгляд упрекал, что последние два месяца Митька как бы избегал Пчхова.
Митькина улыбка означала:
«Не сердись, старый, – твой я, твой накрепко!»
Прежде чем уйти за занавеску, под бок к храпевшему племяннику, Пчхов указал гостю на неостывший чайник, на шкафчик с посудой и запасом насущной еды. Угадав Митькину потребность остаться наедине с сестрой, он не навязывался третьим в разговор, и скоро его не стало, – только побурчал спросонья потревоженный племянник.
– Ведь я, когда из дому сбежала, первое время как… ну, знаешь, как собака жила. А может, и похуже! – шепотом начала рассказывать сестра, когда два ровных дыханья из каморки возвестили о глубоком сне хозяев. – Про первый год и рассказывать страшно: шарманщик меня у помойки подобрал, ломаться обучал… видал небось уличных акробатов, которые на ковриках, посреди двора, за пятачки? А мне уже двенадцатый годок шел, поздновато. Вот ты спросил меня в прошлый раз, с чего мне в жизни так весело, все улыбаюсь я… А это я в ту пору улыбаться научилась, нам без этого просто никуда! – Ее глаза сверкнули зло и сильно, а Митька бережно погладил ее руку, в кулачок сжавшуюся на столе. – У шарманщика еще попугай был, клювом счастье на базарах и народных гуляньях вытягивал. Уж старый, непонятливый, плохо соображал, что от него требуют, но птицу бить опасно было, а человека можно… только на мне душу и отводил. Меня много били, Митя!
– Больно было?
– Обидно и больно. Он был плохой человек… не хочу про него рассказывать, противно. Попугай сдох у него однажды, он и напился, да ночью раз… словом, поминки! Ну, стегнула я его по глазам чем пришлось да прямо в окно головой, как в прорубь. – Она недосказала, ощутив быстрый и гневный трепет Митькиной руки. – Две ночи по лесу скиталась, все костер какой-то видела, видно, с голоду. Бреду, спотыкаюсь, и костер чуть справа идет. Не знаю, кто кого вел те две ночи, а только пришли мы к нынешней моей работе. Третью ночь под фургоном спала: бродячий цирк… никогда не видал ты? Там они все вместе жили, люди и звери. Клоуну одному фамилья была Пёгель, но все его звали просто Пугль. Он утром спустился умыться и увидел меня… – Митьке показалось, что Таня чуть заметно кивнула воспоминанью, словно приветствуя свою судьбу; решительно она гордилась своим неприютным детством. – «Как тебя зовут, девошка?» А я смеюсь, голодная, и солнце такое, с морозцем, прямо в глаза мне бьет. «Матрешкой», – отвечаю. «О, у меня тоже Матрешек был, лошадь. Он меня кидал на песок. Видишь, оба колени испорчены…» – и показал себе на кривые ноги. – Таня пощурила потемневшие глаза в освещенный угол конурки, где из-под занавески выглядывали понурые пчховские сапоги. – С этим самым Пуглем я и связалась на всю жизнь. Мы и теперь вместе живем…
– Живешь с ним? – с грубой прямотой своей среды переспросил брат и опустил глаза от жалости к сестре.
– Нет, ты не понял меня, он совсем старик… давно сошел с арены. Хуже нет для циркача, когда хлопают от жалости. Когда я выросла, то забрала его к себе: он и приготовил меня для цирка. Вначале я по старой памяти репетировала каучук, Пугль уговорил меня пойти на воздух. И вот, помнится, у Джованни, в Уральске, меня как бы опалил первый огонь успеха…
Заново переживая лишенья детских лет, она бегло передала и жалостную историю Пугля, наставника в ее ремесле.
Крохотного роста, давно обруселый немец, неизменно вызывавший взрывы зрительского восхищения своею бесконечно сердитой внешностью, он в частной жизни отличался рыцарским, старомодно-обидчивым, потому что исключительной доброты, сердцем. И, кроме того, обладал поистине феерической, будто нарочно для Фирсова придуманной биографией, полной самых экзотических несчастий. Лет тридцать назад он работал вместе со своими малолетними детошками, так как цирковое искусство почитал высшим из человеческих призваний. Со знаменитым номером – «3-Пугль-3», по словам Тани, вызывавшим неизменную сенсацию, Пугль изъездил дремучую царскую провинцию, всюду доводя до исступленного восторга волосатый, казалось бы, ничем не пробиваемый публикум; довольно обычный номер в ту пору назывался крутить мельницу на ремнях: повиснув на трапеции вниз головой, артист медленно раскручивал висящих на зубном ремне партнеров. Но Фирсов нашел необыкновенные краски и сравненья при описании, какая сыпучая барабанная дробь, положенная при казнях, сопровождала губительные секунды и как в жужжащем свете прожектора порхали над ареной Пуглевы детки, поблескивая мишурой мотыльковых крылышек. Неизвестно, что там случилось однажды, но только среди номера мотыльки полетели в молчащую под ними бездну… Фирсов перечислял в подробностях обстоятельства цирковой паники, – как всхлипывали женщины на галерке и растерянная униформа стояла вокруг, не смея прикоснуться к упавшим, и как все висел под куполом отец, страшась понять наступившую легкость, и как классический негодяй – директор цирка, дрессировщик лошадей и соперник Пугля по давней любовной истории, сказал ему потом, простегивая хлыстом песок: «Балаганщик, ты потерпел фиаско!»
Маленькие партнеры Пугля не вернулись на арену через положенные шесть недель, как когда-то не вернулась их мать. Потеря эта непоправимо отразилась на мастерстве и положении артиста, – хотя в провинциальном цирке желательно уметь все, быстро одрябшее от запоя тело утратило способность даже к флик-фляку. Дьявольское, черное с красным трико Пугль сменил на просторный клоунский пиджак и великанские баретки, перейдя на роль коверного, то есть состоящего неотлучно при ковре и цепью потешных выходок объединяющего отдельные номера программы. Он не проявил особой даровитости на смешную выдумку, однако природный, без натуги акцент в сочетании с трагической маской неизменно имели поразительный успех у зрителя. Столичные ценители называли Пугля новатором жанра, и, по слухам, где-то по этому поводу была даже написана обширная статья, к сожалению так и не появившаяся в печати. Тут уж сочинитель Фирсов переходил к явно недозволенным приемам повествования, однако, учитывая возможное сопротивление читателя, сам же указывал в одном лирическом отступлении, что после двух сряду ожесточенных войн только посредством особо чувствительных мест или исключительных ситуаций может автор пробиться к сердцу читателя.
В эту пору одиночества судьба и подкинула Таню под фургон Пугля… Терпеливо и вполне беспощадно он обучал ее ремеслу, ведя от простейших акробатических приемов на верхние ступени циркового мастерства. И Таня действительно пошла на воздух, как говорят циркачи, и еще подростком делала штейн-трапецию, кордеволан и воздушный акт на уровне отечественных знаменитостей. В семнадцать лет она со сжавшимся сердцем по-новому увидела с высоты залитый светом цирк, причем всеобщее вниманье, восхищение и страхи были устремлены к ней одной. Загремела похрамывающая пожарная музыка, и все исчезло, кроме нее самой и летающей под ней веревки.
На афишу дебюта Пугль подарил ей имя покойной жены, прославленной прыгуньи Геллы Вельтон, и Таня не уронила его, а, напротив, вторично вознесла и прославила под куполами цирков Джованни, Беккера, у самого Труцци, наконец. Со временем ее коронным номером стал штрабат; этот вид циркового упражнения считался устарелым, но Пугль усложнил его головоломными подробностями, а безыскусственная Танина грация спаяла их в сплошное торжество молодого отважного тела. В двадцать три года ее имя, заключенное в рамках черной петли, ставилось на афишу без объяснительных примечаний, зрители попроще принимали ее номер за привозной из-за границы аттракцион. Ее ловкость возвысилась до смертельной дерзости, придававшей штрабату в ее исполнении жестокое и грозное изящество.
– И не страшно тебе, Танька?
– Да вовсе нет, вот глупый! – Насколько же старше выглядела она сейчас, спокойная и снисходительная к страхам брата. – Ведь у нас все до вершка рассчитано: я и с завязанными глазами сумела бы… А кстати, это могла бы быть удачная находка! – задержалась она на мысли после минутного раздумья. – Нет, не позволят, пожалуй.
– Твой муж тоже по цирку что-нибудь работает? – неумело спросил Митька.
– Нет, у меня никого нет пока, я и не тороплюсь… – дрогнувшим голосом пошутила Таня, и что-то явилось во всем ее облике, заставившее брата пожалеть о нечаянном вопросе.
Лишь бы загладить свою оплошность, он тотчас совершил другую, задав сестре вопрос, вызвавший у ней гримаску досады:
– Я никак не мог объяснить твою черную повязку на глазу, там, в поезде, но зато мне потом так жалко тебя стало, Танька!
– Пустяки, просто у меня несчастье с глазом случилось… – опередила она с ответом. – Одно время это мешало мне работать, но теперь я привыкла… привыкаю, я хотела сказать. Словом, жалеть меня не за что: я люблю мое ремесло, и ко мне все хорошо относятся, так что я счастливая… почти! – снова прибавила она, отменяя этой поправкой все прежде сказанное. – И вообще не очень цирку удивляйся!.. Это публике издали кажется – чудесная и смертельная игра, но чудо это покоится на глыбе адского терпенья и труда. Мы не герои, мы только ужасные труженики… Конечно, бывает и риск, как и во всякой такой работе, без поврежденья не обходится иногда. Поэтому приходится всякий раз стиснуть себя в кулаке, окрылиться для одной необыкновенной минуты… да, как в подвиг, знаешь ли! Вот для этого в цирке и свет слепительный, и сказочная мишура, и самые загадочные имена наши. Слухи идут – скоро запретят нам наши романтические имена. Не верю: люди же, пожалеют! – В ее лице стояли ничем не омрачаемые свет и спокойствие, точно знала, что, несмотря ни на что, в мир она пришла для радости и – пусть! немножко запоздалого счастья. – Вот теперь ты все знаешь про меня, – и лукаво посмеялась. – А ведь ты красивый, Митя… За тобой, верно, девушки бегают, признавайся, а?
Очередь рассказывать была за Митькой, и вдруг он отчаянно смутился под ласковым, понукающим взглядом сестры.
X
Трудясь в меру своего скромного дарования над взрывчатой Митькиной подноготной, Фирсов кое-чего дознался и даже разыскал на карте мельчайшую точку, более похожую на брызг чертежникова пера, чем на разъезд сорок четвертой версты от железнодорожного Роговского депо. Вся та область сверху донизу зарисована густой чертежной елью, только окрест векшинской сторожки пропасть накидано веселой кудреватенькой березки. Похоже, водила здесь хороводы на Духов день буйная девичья орава, числом до многих тысяч, но испугались потайного чьего-то шороха, да так и застыли здесь навечно – праздник и тайна!
По той уездной глухомани и блуждал некогда один бродячий фотограф, зарабатывая ночлег и пропитание своим волшебным ремеслом. Имея, кроме того, разрушительные цели против царского самодержавия, расклеивал он по деревням недозволенные картинки, а также другую преступную подкидную бумагу довольно слепой печати, зато с таким забористым призывом на бунт и бой. Его выдал конный барышник из богатого соседнего села Предотечи. И когда жилистые понятые и бородатые сотские вели мимо векшинского домика связанного государственного преступника, а в нарочной подводе ехала вся его опасная и незамысловатая амуниция, восьмилетний Митя не отходил от ворот, пока шествие не сокрылось за горизонтом ближней поруби… Именно в тот последний день своей свободы, направляясь из Демятина в Предотечу, останавливался фотограф на часок в здешнем березовом разливе. Завлекли его прохладные лиственные своды, сулившие дремоту и награду за мятежные его труды, – плескались над ним ветви, свистали птицы, звенела зеленая тишина. Не он ли, черношляпый, и распугал тех березовых девок?
В самой гуще там, ровно нянька средь молоденьких, уж огорбевшая слегка от своих годов, стояла самая что ни есть расплакучая береза; людские недуги и грусти, плывя по ветру, находили себе ночной приют в ее длинных, падучих ветвях. Под нею сидел черношляпый бродяга, запивая местной родниковой водицей сухую горбушку странника, прохлаждаясь от пыльных российских верст; под ней сидел, на ней и вырезал ножичком по сочной мякоти коры: «Клокачев Андрей. Долой насилье!» Покушав, ушел, а след остался.
Много раз с тех пор чесал ветер маслянистую по веснам травку, а дождь и смена лет заровняли отпечатки стоптанных гостевых каблуков. И как никогда не удалось старухе залить свою рану чистой белою корой, – так и Митино сердце не смогло отшелушиться от смутных речей, что нашептывал ему бродячий фотограф, накануне своего ареста ночуя с мальчиком на векшинском сеновале. До полуночи раскрывал он Мите, что мир опутан злом и, скованная исполинским произволом, отмирает людская душа… а мальчику чудились во тьме притаившиеся клубки змей и громадные, в размер человечества, оглушительные кандалы. Даже когда очередная буря повалила березу, то до полного ее исчезновения ничто – ни смерть, ни червь, ни смена времен не властны были избавить от клокачевской метины. «А уж молодая поросль с пахучей и девственной листвой подымалась вокруг, и не было им никакого дела ни до старухиной биографии, ни до полузаплывших на трухлявой колоде письмен, ни до тайной муки ее обнаженных вывороченных корней. Так и мы, люди…» – лирически заканчивал Фирсов соответственный кусок в жизнеописании Дмитрия Векшина.
Мимо того места дважды в день водила Митю нахоженная тропочка в демятинскую школу, и всякий раз при виде надписи на стволе он одновременно и слышал ее, повторяемую глуховатым фанатическим голосом. Она глубже шрама легла на душе, так что все эти чудесные перелески с веселой птичурой, и луговинки, полные кротких цветов, летнее небо в бездумных барашках и синюю чашу береговых осок видел он как бы сквозь коричневые рубцы того шрама. Река не смеет противиться ни одному из своих отражений. По той же причине даже шалости возраста бывали отмечены у Мити недетской оглядкой на изнанку жизни. Уже тогда складывалось у него путаное ощущенье, что мир – не просто игра голубых теней, что свет сплетается с тьмой, которая ему всегдашняя сообщница и соперница, а постоянное детище их – жизнь. Еще более убедился он в этом с годами, но какою жестокой ценой!
На той поверженной березе часто засиживался Митя Векшин со своей любезной подружкой, пока мачеха не приспособила его к делу – зеленым флажком встречать мимоходные поезда. Детям нравилось глазеть отсюда на железную дорогу, проходившую совсем поблизости, тотчас за скатом холма, – и ждать. Сперва зарождался неясный гул вдали, наполняя душу тревожным и сладким ожиданьем… иногда вдобавок протяжные окрики грозящих настигнуть паровозов будили в рощах раскаты березового смеха. Потом все пропадало на минутку, и вдруг над курчавым березнячком, точно нанизанные на ветку, вставали клубы сердитого шумного пара, а в просвете, отщелкиваясь на стыках, мелькали вагоны, вагоны, вагоны и сразу растворялись в тишине… Поезда, поезда, человеческой тоской гонимое железо! С грохотом проносились они мимо, в бесплодной попытке достигнуть края земли и мечты. Все отодвигался горизонт, но не уставал и веселый машинист…
Скучающие глаза следили из окон поезда, как вихрем движения трепало Митин флажок и выгорелый ластик беспоясой рубашки. Однажды проезжающая барыня кинула мальчику пятачок, употребленный им на покупку давно облюбованной у демятинского лавочника шоколадной бутылочки. Митя съел ее с вопросительным удивлением, в один глоток, прежде чем понял смысл своего предосудительного поступка против подружки и семьи. Митин взнос не умножил бы даже нищенского векшинского достатка, равно как балованную девочку не удивила бы доставшаяся ей полконфетка. Но то была первая такая, детская тайна, – она терзала его всю ночь, жгла внутренности, так что к утру мальчик возненавидел безвестную благодетельницу, разглядевшую его на безыменном разъезде, – прорастало посеянное черношляпым зерно. Да и впоследствии, на беду его, неподатлива бывала Митина совесть на самые, казалось бы, убедительные доводы ума.
Тут пропала старшая Митина сестра, которой больше всего доставалось от мачехи. Дня два подряд покликав ее по лесу, отец прекратил поиски, словно знал: векшинское не пропадет. Вскоре обнаружилось, что и Митя вырос из детских рубах и перелатанных штанов, а нового шить было не на что. Восемнадцатирублевое отцовское жалованье целиком уходило на кашу да щи, такие пустые, что из месяца в месяц отражался в них черный потолок избушки. Случилось, изгрызенный бедами мужик, с горя готовый польстить хоть собственному немазаному колесу, будто мазаное, назвал Митю при отце Дмитрием Егорычем. А накануне приезжал охотиться на векшинский участок пути паровозоремонтный мастер из Рогова. Он милостиво отведал жидкого чайку у Егора и все толковал о божественном, что доставляло его особе добавочные вес и почесть, – хозяева же почтительно внимали вокруг духовным вещаниям старого Федора Доломанова.