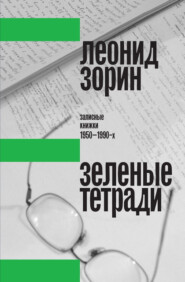По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Покровские ворота (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пилецкий вздохнул с таким облегчением, будто только и ждал этих трезвых слов. «Да здравствует психотерапия» – подумал Костик, глядя на Якова. Лицо Славина выглядело усталым. «Ему выпало терпеливо выслушивать, успокаивать и отпускать грехи. А уж, верно, и он бы не отказался, чтоб однажды кто-то снял с него тяжесть. Нынче вечером он впервые признался, что маленько притомился от всех».
Между тем Пилецкий вдруг обнял Якова.
– Знаешь, я так тебя люблю, – произнес он с чувством, устремив на гостя пьяненький проникновенный взор, – не один день мы знаем друг друга… – Говоря это, он заметил Костика и быстро добавил: – И вас, Костик, я полюбил. Честное слово, мне просто горько, что вы так скоро от нас уезжаете.
Как все сентиментальные люди, Пилецкий был человек настроения и с легкостью преувеличивал значение тех или иных отношений. Сейчас ему искренне казалось, что он отрывает от себя чуть не сына.
– Спасибо вам за тепло и ласку, – ответил Костик. – Чудесный вечер.
Пилецкий растроганно шмыгнул носом.
«Похоже, сейчас он пустит слезу», – опасливо подумал Костик. В голове подозрительно гудело. Видимо, вдоволь хлебнул веселья. Костик тихо скользнул в прихожую.
* * *
Мир и спокойствие позднего лета были взорваны скандальным событием, в основе своей весьма патетическим. Двое популярных людей схватились в извечной борьбе за женщину. Речь шла об Эдике, Абульфасе и, само собой, о роковой Людмиле, которая, став героиней драмы, также приобрела известность. Люди, ранее не бывавшие в скромном клубе автодорожников, стали частенько туда наведываться, чтоб украдкой на нее посмотреть. Прекрасная официантка с достоинством несла на пышных своих плечах бремя обрушившейся на нее славы.
Версии были самые разные. Одни очевидцы сообщали, что Абульфас, вопя что-то невнятное, похоже, хотел убить трубача каким-то непонятным предметом. Другие – романтики и мифотворцы – клялись, что если и не убил, то нанес весьма тяжелые раны, при этом произнеся заклятье. Что жизнь Эдика была в опасности, но Люда, сдавшая свою кровь, спасла его от неминуемой смерти, и, кажется, он останется жить. Третьи, люди уравновешенные, прозаического склада души (скорее всего, не аборигены), говорили, что все обстояло проще, в конечном счете – не столь кроваво, что сначала соперники обменялись непочтительными выражениями, после чего Абульфас вспылил, выбежал из-за своей стойки и, размахивая черпаком, которым он разливал кофе, вознамерился им огреть музыканта. При этом он яростно утверждал, что «горбатого в могиле не утаишь». Эдик мужественно оборонялся ложкой, но потом проявил благоразумие и мудро уступил поле боя, сказав, что ноги его здесь не будет.
Славин (рождением северянин) склонялся к прозаической версии.
– Стыжусь своей мефистофельской роли, – говорил он сбитому с толку Костику. – И все-таки чувствует мое сердце, что люди, лишенные воображения, в который раз окажутся правы.
Вскоре на улице они встретили Эдика и убедились, что тот невредим. Друзья выразили свое удовольствие видеть его живым и здоровым. Шерешевский был томен. Близость опасности придала ему некоторую лиричность и еще большую значительность. Однако, вспомнив про Абульфаса, он едва не вышел из берегов.
– Это был самый настоящий теракт, – сказал он тоном, не допускающим возражений
– Теракт?
– Ну да. Террористический акт. Он покушался на мою жизнь.
– Бог с вами, Эдик…
– В том нет сомнения. Я всегда знал, что это скрытый бандит, и поражался администрации, которая его пригревала на своей нечистоплотной груди. К тому же публика его избаловала, и он почувствовал себя королем. Вы тоже, друзья мои, не без греха. «Что за кофе! Какое искусство!» Подумаешь, мастер! Покойный мой дед варил кофе лучше, чем этот разбойник. Во всяком случае, не такую бурду. А вы вашими похвалами вскружили ему голову и разнуздали инстинкты.
– Но он вас не ранил?
– По чистой случайности. Чем-то он был вооружен. Но я – не из робкого десятка. И пусть он бога благодарит, что назавтра мне предстоял концерт. На его счастье я должен был себя сдерживать. Артист обязан беречь свою внешность.
– Из-за вашей внешности все неприятности, – сказал Костик.
– Не говорите. Красивый парень, да еще обаяние, умом тоже бог не обидел – ясно, что бабы мечут икру. В чем тут моя вина, объясните? Вечно какая-то канитель.
– Но Люда вела себя героически. Это вас все же должно согреть.
– Кто это вам наплел?
– Ходят слухи.
– Я поражаюсь. Нашли героиню. Стоит у стойки и мажет губы. Я ей кричу: «Люда, уйми его…» А она бубнит: «Абульфасик, хватит…» И не шелохнется. Нет, эти женщины лично мне уважения не внушают. Той же Люде я тысячу раз твердил: поставь ты этого печенега на место. А она, напротив, его поощряла.
– Вы снова правы. Женщины глухи.
Эта невинная сентенция внезапно настроила потерпевшего на другую волну. Он оживился.
– А я вам никогда не рассказывал, как я встречался с глухой дамой? – спросил он. Лицо его озарилось. – Роскошная женщина! Кровь с молоком! Шея как у лебедя! Ноги – чуть не из горла! Но глухая, как эта стена. Ни звука не слышала, представляете? Это была какая-то пытка! Невозможно было договориться.
– Вы это вспомнили очень кстати, – сказал Славин. – История символическая.
* * *
Наконец-то график работы Зины, старшей сестры Жеки и старшей сестры в городской психиатрической клинике, покровительствовал любви. Все ближе и ближе был день отъезда, и встречи на бульварной скамье казались насмешкой и профанацией. Времени оставалось мало, необходимо было спешить и взять друг от друга все, что можно, ничего не откладывая на завтра.
– Попрощаемся, так уж всласть, – сказала Жека не без лукавства.
Сообщив родителям, чтоб не ждали и не тревожились ни о чем, Костик отправился в свой сезам. На лестнице он столкнулся с соседкой в воспетой им фиолетовой мантии. Запахнув ее, от смущения вспыхнув, она стремительно метнулась в сторону. Вид молодого человека не оставлял никаких сомнений в том, куда он сегодня спешил. Впрочем, каждый выход Костика в свет имел, по мнению Елены Гавриловны, одну и ту же греховную цель.
Вечер густел, фонари сияли, в воздухе веяло ожиданием. Костик шагал по старым улицам, не торопившимся помолодеть, как это случилось с ними позднее, через несколько десятилетий. Но даже и в будущем, в дни перемен, этот город, в отличие от других, сохранил устойчивую инерцию, не во всем удобную для его жителей, но пленительную для его гостей. Да и жители ощущали по-своему ее хазарское очарование.
Многие города стремятся возможно скорее проститься с прошлым, точно в нем скрыто нечто постыдное. Они отрекаются от него, как нувориши от своей родословной, они его сбрасывают с себя, как износившееся платье, выкидывают, чтоб не лезло в глаза, на окраинную свалку, подальше. А уж если нежданно и обнаружатся ревнители седой старины, то ее преподносят такой отмытой, отполированной, такой отдельной, что она лишь подчеркивает несоответствие с бьющей через край современностью.
Но в этом городе было иначе. Его южная история так проросла в нем, что ее можно было лишь окружить, но не вытоптать.
Кварталы, крутые, почти отвесные, и пологие, спускались к равнинной части, вливались в тупики, в переулки, в центральные улицы, витые, сворачивавшиеся полукольцом, наполненные трамвайным звоном, и прямые, устремленные к морю. Новых домов было немного, а старые лепились друг к другу, темные узкие проходы, заставленные чанами для мусора, вели во дворы с внутренними галереями, а над тротуарами нависали балконы, на которых в сумерки пили чай, а позже на ночь стелили постели.
Город обычно переполняли знакомые, Костик едва успевал раскланиваться. Останавливаться он избегал – можно было застрять и опоздать к условленному часу. Но когда на соседней Первомайской он встречал Газанфара, то невольно замедлял шаг и почтительно его приветствовал.
До войны Газанфар трудился в районе, называвшемся Черным Городом, на одном из нефтеперегонных заводов. Он был ранен в Керчи, вернулся из госпиталя с продырявленным легким и сменил профессию – стал водопроводчиком, а после работы занимался всяким мелким ремонтом. Руки у него были не то что умные, а уж поистине всеведущие, и они почти не оставались в бездействии – он очень нуждался в дополнительном заработке.
Когда поток эвакуируемых хлынул сквозь город, Газанфар взял к себе сперва одного ребенка, потом – другого, а короткий срок спустя – еще двух, рыжих, конопатых близнят. Истории всех этих детей были и различны и сходны. У девочки в порту умерла тетка, второй малыш потерял мать в эшелоне в ночной бомбежке, а близнята даже толком не знали, где остались родители, – волна нашествия разлучила их в первые дни.
Жена Газанфара, рыхловатая женщина с полным растерянным лицом, лишь молча всплескивала руками, когда муж являлся с очередным приемышем, – своих было двое! – но не прекословила.
Жилье их мало чем отличалось от многих других в этой части города – две небольшие темноватые комнаты с галерейкой в шумном тесном дворе, где жизнь была открытой, вся нараспашку, точно выставленная для обозрения. И жилье это чудом каждый раз расширялось, будто было оно надувным – послушно вбирало в себя пополнение.
Газанфар был суров и немногословен. Когда Костик спрашивал, как идут дела, он неизменно отвечал:
– Все как надо.
Было ясно, что это не пустые слова.
Годы шли, дети вытягивались, соседи поговаривали, что старшие уже готовы вылететь из гнезда. Сам Газанфар заметно старел, но образ жизни его не менялся – уходил ранним утром, приходил ближе к ночи. Выходных он и вовсе не признавал, они-то и были самыми рабочими, больше всего успеваешь сделать, и все-таки на свою стаю у него всегда находилось время – откуда он брал его, понять нельзя было.
Однажды в праздничный день Костик встретил всю семью на бульваре, это было незаурядным событием! Впереди бежали рыжие близнецы, сзади вышагивали еще четверо. Вслед за ними шли Газанфар и Асья-ханум. У нее было все то же напряженно-растерянное выражение лица, Газанфар же, завидя Костика, усмехнулся, едва ли не впервые за все их знакомство.
– Все, как надо, – пробормотал Костик.
Сегодня, однако, он сравнительно быстро преодолел привычный маршрут, никто не встретился по дороге.
Между тем Пилецкий вдруг обнял Якова.
– Знаешь, я так тебя люблю, – произнес он с чувством, устремив на гостя пьяненький проникновенный взор, – не один день мы знаем друг друга… – Говоря это, он заметил Костика и быстро добавил: – И вас, Костик, я полюбил. Честное слово, мне просто горько, что вы так скоро от нас уезжаете.
Как все сентиментальные люди, Пилецкий был человек настроения и с легкостью преувеличивал значение тех или иных отношений. Сейчас ему искренне казалось, что он отрывает от себя чуть не сына.
– Спасибо вам за тепло и ласку, – ответил Костик. – Чудесный вечер.
Пилецкий растроганно шмыгнул носом.
«Похоже, сейчас он пустит слезу», – опасливо подумал Костик. В голове подозрительно гудело. Видимо, вдоволь хлебнул веселья. Костик тихо скользнул в прихожую.
* * *
Мир и спокойствие позднего лета были взорваны скандальным событием, в основе своей весьма патетическим. Двое популярных людей схватились в извечной борьбе за женщину. Речь шла об Эдике, Абульфасе и, само собой, о роковой Людмиле, которая, став героиней драмы, также приобрела известность. Люди, ранее не бывавшие в скромном клубе автодорожников, стали частенько туда наведываться, чтоб украдкой на нее посмотреть. Прекрасная официантка с достоинством несла на пышных своих плечах бремя обрушившейся на нее славы.
Версии были самые разные. Одни очевидцы сообщали, что Абульфас, вопя что-то невнятное, похоже, хотел убить трубача каким-то непонятным предметом. Другие – романтики и мифотворцы – клялись, что если и не убил, то нанес весьма тяжелые раны, при этом произнеся заклятье. Что жизнь Эдика была в опасности, но Люда, сдавшая свою кровь, спасла его от неминуемой смерти, и, кажется, он останется жить. Третьи, люди уравновешенные, прозаического склада души (скорее всего, не аборигены), говорили, что все обстояло проще, в конечном счете – не столь кроваво, что сначала соперники обменялись непочтительными выражениями, после чего Абульфас вспылил, выбежал из-за своей стойки и, размахивая черпаком, которым он разливал кофе, вознамерился им огреть музыканта. При этом он яростно утверждал, что «горбатого в могиле не утаишь». Эдик мужественно оборонялся ложкой, но потом проявил благоразумие и мудро уступил поле боя, сказав, что ноги его здесь не будет.
Славин (рождением северянин) склонялся к прозаической версии.
– Стыжусь своей мефистофельской роли, – говорил он сбитому с толку Костику. – И все-таки чувствует мое сердце, что люди, лишенные воображения, в который раз окажутся правы.
Вскоре на улице они встретили Эдика и убедились, что тот невредим. Друзья выразили свое удовольствие видеть его живым и здоровым. Шерешевский был томен. Близость опасности придала ему некоторую лиричность и еще большую значительность. Однако, вспомнив про Абульфаса, он едва не вышел из берегов.
– Это был самый настоящий теракт, – сказал он тоном, не допускающим возражений
– Теракт?
– Ну да. Террористический акт. Он покушался на мою жизнь.
– Бог с вами, Эдик…
– В том нет сомнения. Я всегда знал, что это скрытый бандит, и поражался администрации, которая его пригревала на своей нечистоплотной груди. К тому же публика его избаловала, и он почувствовал себя королем. Вы тоже, друзья мои, не без греха. «Что за кофе! Какое искусство!» Подумаешь, мастер! Покойный мой дед варил кофе лучше, чем этот разбойник. Во всяком случае, не такую бурду. А вы вашими похвалами вскружили ему голову и разнуздали инстинкты.
– Но он вас не ранил?
– По чистой случайности. Чем-то он был вооружен. Но я – не из робкого десятка. И пусть он бога благодарит, что назавтра мне предстоял концерт. На его счастье я должен был себя сдерживать. Артист обязан беречь свою внешность.
– Из-за вашей внешности все неприятности, – сказал Костик.
– Не говорите. Красивый парень, да еще обаяние, умом тоже бог не обидел – ясно, что бабы мечут икру. В чем тут моя вина, объясните? Вечно какая-то канитель.
– Но Люда вела себя героически. Это вас все же должно согреть.
– Кто это вам наплел?
– Ходят слухи.
– Я поражаюсь. Нашли героиню. Стоит у стойки и мажет губы. Я ей кричу: «Люда, уйми его…» А она бубнит: «Абульфасик, хватит…» И не шелохнется. Нет, эти женщины лично мне уважения не внушают. Той же Люде я тысячу раз твердил: поставь ты этого печенега на место. А она, напротив, его поощряла.
– Вы снова правы. Женщины глухи.
Эта невинная сентенция внезапно настроила потерпевшего на другую волну. Он оживился.
– А я вам никогда не рассказывал, как я встречался с глухой дамой? – спросил он. Лицо его озарилось. – Роскошная женщина! Кровь с молоком! Шея как у лебедя! Ноги – чуть не из горла! Но глухая, как эта стена. Ни звука не слышала, представляете? Это была какая-то пытка! Невозможно было договориться.
– Вы это вспомнили очень кстати, – сказал Славин. – История символическая.
* * *
Наконец-то график работы Зины, старшей сестры Жеки и старшей сестры в городской психиатрической клинике, покровительствовал любви. Все ближе и ближе был день отъезда, и встречи на бульварной скамье казались насмешкой и профанацией. Времени оставалось мало, необходимо было спешить и взять друг от друга все, что можно, ничего не откладывая на завтра.
– Попрощаемся, так уж всласть, – сказала Жека не без лукавства.
Сообщив родителям, чтоб не ждали и не тревожились ни о чем, Костик отправился в свой сезам. На лестнице он столкнулся с соседкой в воспетой им фиолетовой мантии. Запахнув ее, от смущения вспыхнув, она стремительно метнулась в сторону. Вид молодого человека не оставлял никаких сомнений в том, куда он сегодня спешил. Впрочем, каждый выход Костика в свет имел, по мнению Елены Гавриловны, одну и ту же греховную цель.
Вечер густел, фонари сияли, в воздухе веяло ожиданием. Костик шагал по старым улицам, не торопившимся помолодеть, как это случилось с ними позднее, через несколько десятилетий. Но даже и в будущем, в дни перемен, этот город, в отличие от других, сохранил устойчивую инерцию, не во всем удобную для его жителей, но пленительную для его гостей. Да и жители ощущали по-своему ее хазарское очарование.
Многие города стремятся возможно скорее проститься с прошлым, точно в нем скрыто нечто постыдное. Они отрекаются от него, как нувориши от своей родословной, они его сбрасывают с себя, как износившееся платье, выкидывают, чтоб не лезло в глаза, на окраинную свалку, подальше. А уж если нежданно и обнаружатся ревнители седой старины, то ее преподносят такой отмытой, отполированной, такой отдельной, что она лишь подчеркивает несоответствие с бьющей через край современностью.
Но в этом городе было иначе. Его южная история так проросла в нем, что ее можно было лишь окружить, но не вытоптать.
Кварталы, крутые, почти отвесные, и пологие, спускались к равнинной части, вливались в тупики, в переулки, в центральные улицы, витые, сворачивавшиеся полукольцом, наполненные трамвайным звоном, и прямые, устремленные к морю. Новых домов было немного, а старые лепились друг к другу, темные узкие проходы, заставленные чанами для мусора, вели во дворы с внутренними галереями, а над тротуарами нависали балконы, на которых в сумерки пили чай, а позже на ночь стелили постели.
Город обычно переполняли знакомые, Костик едва успевал раскланиваться. Останавливаться он избегал – можно было застрять и опоздать к условленному часу. Но когда на соседней Первомайской он встречал Газанфара, то невольно замедлял шаг и почтительно его приветствовал.
До войны Газанфар трудился в районе, называвшемся Черным Городом, на одном из нефтеперегонных заводов. Он был ранен в Керчи, вернулся из госпиталя с продырявленным легким и сменил профессию – стал водопроводчиком, а после работы занимался всяким мелким ремонтом. Руки у него были не то что умные, а уж поистине всеведущие, и они почти не оставались в бездействии – он очень нуждался в дополнительном заработке.
Когда поток эвакуируемых хлынул сквозь город, Газанфар взял к себе сперва одного ребенка, потом – другого, а короткий срок спустя – еще двух, рыжих, конопатых близнят. Истории всех этих детей были и различны и сходны. У девочки в порту умерла тетка, второй малыш потерял мать в эшелоне в ночной бомбежке, а близнята даже толком не знали, где остались родители, – волна нашествия разлучила их в первые дни.
Жена Газанфара, рыхловатая женщина с полным растерянным лицом, лишь молча всплескивала руками, когда муж являлся с очередным приемышем, – своих было двое! – но не прекословила.
Жилье их мало чем отличалось от многих других в этой части города – две небольшие темноватые комнаты с галерейкой в шумном тесном дворе, где жизнь была открытой, вся нараспашку, точно выставленная для обозрения. И жилье это чудом каждый раз расширялось, будто было оно надувным – послушно вбирало в себя пополнение.
Газанфар был суров и немногословен. Когда Костик спрашивал, как идут дела, он неизменно отвечал:
– Все как надо.
Было ясно, что это не пустые слова.
Годы шли, дети вытягивались, соседи поговаривали, что старшие уже готовы вылететь из гнезда. Сам Газанфар заметно старел, но образ жизни его не менялся – уходил ранним утром, приходил ближе к ночи. Выходных он и вовсе не признавал, они-то и были самыми рабочими, больше всего успеваешь сделать, и все-таки на свою стаю у него всегда находилось время – откуда он брал его, понять нельзя было.
Однажды в праздничный день Костик встретил всю семью на бульваре, это было незаурядным событием! Впереди бежали рыжие близнецы, сзади вышагивали еще четверо. Вслед за ними шли Газанфар и Асья-ханум. У нее было все то же напряженно-растерянное выражение лица, Газанфар же, завидя Костика, усмехнулся, едва ли не впервые за все их знакомство.
– Все, как надо, – пробормотал Костик.
Сегодня, однако, он сравнительно быстро преодолел привычный маршрут, никто не встретился по дороге.