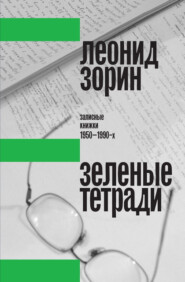По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Покровские ворота (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Оклемались?
– Нормалёк, – откликнулась Люда.
– Еще лучше стала, – сказал Костик.
– Слов нет, одни буквы, – одарила улыбкой, показав крупные рафинадные зубы.
– Докладывай, друг мой, – сказал Яков. – Изложи свои впечатления. Побывал ли ты, любезный, у Яра? Там соколовский хор когда-то был знаменит, насколько я помню.
– Я был на ансамбле песни и пляски в саду Баумана, – сказал Костик.
И неторопливо поведал про то, как сложились его дела. Рассказал и о тех, с кем столкнула столица. Славин признал поездку удачной.
– В сущности, твой прохиндей доцент, с его демократическим стилем, не так уж неправ. Довольно учиться. Надо, господа, делать дело. Посему земляк твоего отца, который – подобно мне – рассиропился, увидев провинциальный цветок, возможно, твой истинный благодетель. А для науки ты не погиб. Можешь ее постигать заочно.
– В том-то и суть, что сам не поймешь, чего хочешь, – согласился Костик. – Оттого и дергаешься. Но ведь на двух свадьбах не пляшут.
– Наконец-то мы съели яблоко и добрались до червяка, – усмехнулся Яков. – А что до песен и плясок, нам все сейчас растолкует Эдик.
Костик обернулся и увидел Шерешевского. Музыкант шествовал по дорожке, с достоинством кланяясь своим знакомым. Круглые выпученные очи, как всегда, выражали не то подозрение, не то затаенную обиду. Выражение это не соответствовало его неизменной рассудительности и существовало вполне автономно.
– Да, это он, – сказал Костик, будто не сразу узнал трубача. – О, как ты красив, проклятый!
Эдик был шокирован.
– Это вы так здороваетесь? Ну и манеры у вас… Я поражаюсь.
– Не обижайтесь. Это стихи.
– Это – стихи?
– Не мои. Одной женщины.
– Ах так? На женщин это похоже. Нагрубят и не поперхнутся. Такая мода теперь пошла. А кто она?
– Некая Ахматова Анна. Знакомы?
– Бог миловал. Люданчик, солнце мое, я, пожалуй, на минуту присяду. Захвати чего-нибудь на мою долю. – Опустившись на стул, он тяжко вздохнул и неодобрительно заметил: – Слишком много читаете, Котик.
– Да, его привлекает сам процесс, – сказал Славин. – Как героя одной эпопеи.
– О рыбалке я не могу читать, – возразил Костик. – Клонит к подушке.
– Ничего удивительного, – сказал Эдик. – Перегружаетесь – вот и клонит. Подумали б о своем здоровье. Я и сам не прочь в свободное время почитать книгу. Но чтоб так… запоем…
– Одно удовольствие вас слушать, – сказал Костик, – все так разумно.
– Что правда, то правда, – подтвердил Славин, – у него каждое слово – на вес золота.
Люда расставила перед артистом скромные дары клуба дорожников. Она сияла от удовольствия.
– Вот так-то, мальчики дорогие, – сказала она с хозяйским радушием, – рядком, ладком, да еще с огурчиком.
Славин только руками развел:
– Хорошо, Эдик, жить у вас за пазухой.
Слова Якова Эдику были приятны. Они утверждали его могущество. Задержав руку Люды в своей ладони, он нашептывал опасные речи, не меняя, впрочем, своей обычной лениво-медлительной интонации:
– Нет, вы посмотрите на эти глаза, на эти зубы, где ты взяла их? Сколько тебя не было? Целую вечность… Можно так со мной обращаться? Погляди, от меня только тень осталась…
Это было явным преувеличением. Эдик был все так же кругл и пухл и меньше всего походил на призрак, но соответствия истине от него не требовалось. Люда внимала этой мелодии с необычайным удовлетворением. Было видно, что она воспарила в неведомую волшебную сферу. Но чем больше сияния излучало ее зарумянившееся лицо, тем больше мрачнело лицо Абульфаса. Из коричневого оно стало черным.
– На чужую кровать рот не разевать, – пробурчал он, изрядно меняя текст, но сохраняя рифму и смысл.
– Нет, вы слышите? – воззвал музыкант. – Он же открыто бесчестит женщину.
– Абульфас, не психуй, – засмеялась Люда.
– Я сказал, он пусть слушает. Слышал звон – иди вон.
– Еще его слушать! – фыркнул Эдик. – Не много ли чести?
– Не плюй колодцем, – посоветовал Абульфас. – Цыплят по восемь считают.
– Нет, каков?! Он еще угрожает!
– А-буль-фа-сик!.. – повторила Люда, самую малость повысив голос, но от столика отошла.
Кофеварщик загремел черпаком и на сей раз не произнес ни слова.
– Просто черт знает что, – возмущался Эдик. – Называется, культурный очаг…
Мимо их столика пробежал директор культурного очага, как всегда нахмуренный и чем-то расстроенный. Завидев газетчиков, он улыбнулся, а Эдику небрежно кивнул. Различие объяснялось тем, что первые были почетные гости, а Эдик был здесь свой человек. Но трубач, не обретший еще равновесия, почувствовал себя задетым.
– Вы только взгляните на его лицо, – сказал он, – точно нанюхался помета. Распустил работников до последней степени и бегает как ни в чем не бывало. Человеку доверили такую площадку, а он ее довел до развала. Выступать здесь стало одно наказание. Каценельсон сказал, что взорвет их всех, и на этот раз я его понимаю. Сцена наполовину сгнила, за кулисами дует из всех щелей. Вокалисты простуживаются, едва не плачут. Я поражаюсь, как все это терпят. Надо и мне вам написать.
– Давно уж пора, – сказал Костик. – А то перебираешь конверты и все думаешь: что ж он, милый, не пишет?
– Нет, серьезно. Газета – большая сила. О кинотеатрах вы мощно выступили.
– Ровнер тоже одобрил, – сказал Костик.
– Золотой человек, – Славин растрогался. – Поддержал?
– Снимает с Де Сантиса стружку. Не оставил на нем живого места.
Эдик произнес с уважением:
– Нормалёк, – откликнулась Люда.
– Еще лучше стала, – сказал Костик.
– Слов нет, одни буквы, – одарила улыбкой, показав крупные рафинадные зубы.
– Докладывай, друг мой, – сказал Яков. – Изложи свои впечатления. Побывал ли ты, любезный, у Яра? Там соколовский хор когда-то был знаменит, насколько я помню.
– Я был на ансамбле песни и пляски в саду Баумана, – сказал Костик.
И неторопливо поведал про то, как сложились его дела. Рассказал и о тех, с кем столкнула столица. Славин признал поездку удачной.
– В сущности, твой прохиндей доцент, с его демократическим стилем, не так уж неправ. Довольно учиться. Надо, господа, делать дело. Посему земляк твоего отца, который – подобно мне – рассиропился, увидев провинциальный цветок, возможно, твой истинный благодетель. А для науки ты не погиб. Можешь ее постигать заочно.
– В том-то и суть, что сам не поймешь, чего хочешь, – согласился Костик. – Оттого и дергаешься. Но ведь на двух свадьбах не пляшут.
– Наконец-то мы съели яблоко и добрались до червяка, – усмехнулся Яков. – А что до песен и плясок, нам все сейчас растолкует Эдик.
Костик обернулся и увидел Шерешевского. Музыкант шествовал по дорожке, с достоинством кланяясь своим знакомым. Круглые выпученные очи, как всегда, выражали не то подозрение, не то затаенную обиду. Выражение это не соответствовало его неизменной рассудительности и существовало вполне автономно.
– Да, это он, – сказал Костик, будто не сразу узнал трубача. – О, как ты красив, проклятый!
Эдик был шокирован.
– Это вы так здороваетесь? Ну и манеры у вас… Я поражаюсь.
– Не обижайтесь. Это стихи.
– Это – стихи?
– Не мои. Одной женщины.
– Ах так? На женщин это похоже. Нагрубят и не поперхнутся. Такая мода теперь пошла. А кто она?
– Некая Ахматова Анна. Знакомы?
– Бог миловал. Люданчик, солнце мое, я, пожалуй, на минуту присяду. Захвати чего-нибудь на мою долю. – Опустившись на стул, он тяжко вздохнул и неодобрительно заметил: – Слишком много читаете, Котик.
– Да, его привлекает сам процесс, – сказал Славин. – Как героя одной эпопеи.
– О рыбалке я не могу читать, – возразил Костик. – Клонит к подушке.
– Ничего удивительного, – сказал Эдик. – Перегружаетесь – вот и клонит. Подумали б о своем здоровье. Я и сам не прочь в свободное время почитать книгу. Но чтоб так… запоем…
– Одно удовольствие вас слушать, – сказал Костик, – все так разумно.
– Что правда, то правда, – подтвердил Славин, – у него каждое слово – на вес золота.
Люда расставила перед артистом скромные дары клуба дорожников. Она сияла от удовольствия.
– Вот так-то, мальчики дорогие, – сказала она с хозяйским радушием, – рядком, ладком, да еще с огурчиком.
Славин только руками развел:
– Хорошо, Эдик, жить у вас за пазухой.
Слова Якова Эдику были приятны. Они утверждали его могущество. Задержав руку Люды в своей ладони, он нашептывал опасные речи, не меняя, впрочем, своей обычной лениво-медлительной интонации:
– Нет, вы посмотрите на эти глаза, на эти зубы, где ты взяла их? Сколько тебя не было? Целую вечность… Можно так со мной обращаться? Погляди, от меня только тень осталась…
Это было явным преувеличением. Эдик был все так же кругл и пухл и меньше всего походил на призрак, но соответствия истине от него не требовалось. Люда внимала этой мелодии с необычайным удовлетворением. Было видно, что она воспарила в неведомую волшебную сферу. Но чем больше сияния излучало ее зарумянившееся лицо, тем больше мрачнело лицо Абульфаса. Из коричневого оно стало черным.
– На чужую кровать рот не разевать, – пробурчал он, изрядно меняя текст, но сохраняя рифму и смысл.
– Нет, вы слышите? – воззвал музыкант. – Он же открыто бесчестит женщину.
– Абульфас, не психуй, – засмеялась Люда.
– Я сказал, он пусть слушает. Слышал звон – иди вон.
– Еще его слушать! – фыркнул Эдик. – Не много ли чести?
– Не плюй колодцем, – посоветовал Абульфас. – Цыплят по восемь считают.
– Нет, каков?! Он еще угрожает!
– А-буль-фа-сик!.. – повторила Люда, самую малость повысив голос, но от столика отошла.
Кофеварщик загремел черпаком и на сей раз не произнес ни слова.
– Просто черт знает что, – возмущался Эдик. – Называется, культурный очаг…
Мимо их столика пробежал директор культурного очага, как всегда нахмуренный и чем-то расстроенный. Завидев газетчиков, он улыбнулся, а Эдику небрежно кивнул. Различие объяснялось тем, что первые были почетные гости, а Эдик был здесь свой человек. Но трубач, не обретший еще равновесия, почувствовал себя задетым.
– Вы только взгляните на его лицо, – сказал он, – точно нанюхался помета. Распустил работников до последней степени и бегает как ни в чем не бывало. Человеку доверили такую площадку, а он ее довел до развала. Выступать здесь стало одно наказание. Каценельсон сказал, что взорвет их всех, и на этот раз я его понимаю. Сцена наполовину сгнила, за кулисами дует из всех щелей. Вокалисты простуживаются, едва не плачут. Я поражаюсь, как все это терпят. Надо и мне вам написать.
– Давно уж пора, – сказал Костик. – А то перебираешь конверты и все думаешь: что ж он, милый, не пишет?
– Нет, серьезно. Газета – большая сила. О кинотеатрах вы мощно выступили.
– Ровнер тоже одобрил, – сказал Костик.
– Золотой человек, – Славин растрогался. – Поддержал?
– Снимает с Де Сантиса стружку. Не оставил на нем живого места.
Эдик произнес с уважением: