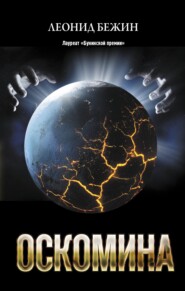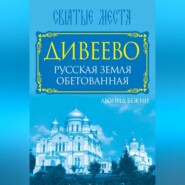По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Грот, или Мятежный мотогон
Автор
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Она же у тебя в особах ходит.
– Она-то ходит, но я к ней больше не хожу. Она в пост всех пирожными угощает, да и вообще… салон. Нет, отнеси Прохоровой Любе. Только матери на глаза не попадайся.
– Какая ж твоя Люба особа!
– Не придирайся. Об особе я так, от запальчивости… Мы тут с матерью о ней балакали. Немного повздорили. Особой-то мать ее назвала. Ты адрес ее знаешь?
– Так она у братьев-близнецов живет, за кирпичным заводом. Казимир Адамович у нас теперь в школе преподает. Математику. Он говорит, что Бога нет, а есть теория вероятностей и математическая статистика.
– Значит, будет в аду раскаленные сковороды лизать. Своим лживым языком. У чертей своя статистика.
Санька по-своему истолковала его адские посулы. Она притихла, помолчала и якобы безучастно спросила:
– А ты мог бы за веру убить?
– Как убить?
– В Афгане же ты душманов этих убивал. А они – мусульмане.
– Скажешь тоже: в Афгане… Там война была. И нас убивали. Глаза выкалывали. Уши, носы и кое-то другое отрезали.
– А Казимира нашего мог бы?
– Убить-то? Нет… – Отец Вассиан развел руками в знак полнейшей неспособности к подобным действиям.
– Жалко его. – Санька всхлипнула и часто заморгала. – Он добрый. Помолись, чтобы его там на небе простили.
– Молюсь. За всех молюсь. Это я так… стращаю. Вера-то не каждому дается.
– Ну, я пошла… – Санька смахнула слезинки и, слегка приподнявшись на цыпочки, поцеловала отца в висок.
– С Богом. – Отец Вассиан протянул ей сложенную вчетверо записку. – К братьям-близнецам и неси. А на обратном пути все-таки загляни к Полине Ипполитовне. Скажи, что я в среду у нее не буду. Страстная… нехорошо.
– Скажу, – пообещала Санька. – А Полина Ипполитовна мне на это что-нибудь свое скажет. Она же – особа… И к тому же ндравная, как о ней все говорят.
– Говорят, а ты не говори. Не повторяй. – Отец Вассиан что-то внушительное прибавил к этим словам глазами. – Скажешь, значит, осудишь.
– Я вообще молчу. – Санька считала это лучшим ответом на пожелание сказать одно и не говорить другого. – Я, как моя старшая сестра Павла, молчальница, безответная. В детском доме гроши получает и все терпит. С нее беру пример.
– Молчальница. Хоть бы в церковь разок зашла, а то этак и промолчит всю жизнь. – Отец Вассиан, отвлекшись на что-то, не уловил, сказал он это или только подумал. Поэтому на всякий случай повторил: – Хотя бы разок… в церковь-то. А то ведь ни разу..
Глава четвертая
Рыжий русский поп
Санька (хоть и жалостливая, но свистуха, рыжая бестия) накинула пальто, нацепила беретку – так, что казалось, будто она чудом держится на одном ухе. Затем стала натягивать сапоги, попрыгала на одной ноге (сбившийся шерстяной носок мешал как следует просунуть ногу) и убежала.
Отец Вассиан, проводив ее долгим взглядом, посмотрел на часы и прикинул, скоро ли свистуха вернется. Если нигде особо не задерживаться и с подружками не пустословить – не балясничать, – должна за полчаса обернуться. Или минут за сорок.
Чтобы время быстрей прошло, занялся наведением порядка. Он спрятал письмо в шкатулку для документов – на самое дно, под паспорта, диплом и воинский билет. Вращая черный валик, осторожно вынул переложенные копиркой и заправленные в пишущую машинку листы. Накрыл машинку крышкой, чтобы зря не пылилась.
Выключил радио, бубнившее одно и то же. Открыл Псалтырь на том месте, где лежала закладка – его фотография на привале, у ручья, вместе с афганской братвой.
Бравый вояка – каска набекрень. Серьга в ухе, вздернутый нос. Из-под каски выбился рыжий чуб. Таким был до осколочного ранения и ожога (до черноты опалило подбородок и нижнюю губу), чуть не лишивших его жизни.
А сейчас вместо вояки – рыжий русский поп. Подрясник и крест на животе. Или все-таки, хоть и поп, а вояка?
Спрятал фотографию и стал читать Псалтырь (всегда успокаивало) – по несколько раз одну и ту же строчку, поскольку мысли где-то витали и смысл ускользал.
Через полчаса с минутами вернулась дочь, что-то насвистывая (мальчишеские замашки). Включила радио (не выносила тишины).
Отец Вассиан строго спросил:
– Передала?
– Угу. – Уже успела что-то сунуть в рот. Прожевала, проглотила и выговорила более внятно: – Передала, передала.
– В руки?
– В ноги, – огрызнулась Санька, не любившая дотошных расспросов.
– Как с отцом разговариваешь! И что Люба? При тебе прочла?
– Да, сразу, при мне.
– И что сказала?
– Сначала ничего не сказала. Охнула, побледнела и взялась за сердце. Записку порвала. – Санька отвечала, как на экзамене, старалась ничего не упустить. – Села, свесила голову, сложила руки на коленях. Мол, что ж теперь делать? А затем сказала про брата своего Евгения – того, что в Питере. Мол, напишет ему или позвонит с почты по междугороднему.
– Зачем?
– Чтобы приехал ее утешать и спасать.
– Евгений-то? Тю… Да я его еще босым и голопузым помню, как он по улицам бегал, пыль пятками вышибал, Евгений-то этот. Теперь же он – гляди-ка – спасатель.
– Сам на него гляди.
– Ладно, погляжу, как приедет. Слыхал, он учености набрался. Богослов! Догматику и апологетику изучает. Вот и проверим, какой он богослов. Ты записку сама-то прочла?
– Ну, конечно. Само собой…
– Все поняла? До всего дозналась?
– А то! Я этого Вялого как огня боюсь. Он нашей химичке, помню, ножом угрожал из-за того, что она в клубе танцевать с ним отказывалась. Зачем ты ему срок скостил, на волю вытащил? Сидел бы там и сидел.
– А ты разве не знаешь, что и меня когда-то добрые люди взяли на поруки и от тюрьмы избавили? Я ведь по глупости, по недомыслию угодил. Я им по гроб благодарен буду. И на мне теперь, как ни крути, долг – тот, что платежом красен. Я теперь должен за кого-то ручаться, разве нет? К тому же Вялый-то – он ведь в Бога верует. И в Афганистане со мной служил. А это свято.
Саньку эти слова как будто убедили, хотя и не до конца: в мыслях осталось сомнение.
– Она-то ходит, но я к ней больше не хожу. Она в пост всех пирожными угощает, да и вообще… салон. Нет, отнеси Прохоровой Любе. Только матери на глаза не попадайся.
– Какая ж твоя Люба особа!
– Не придирайся. Об особе я так, от запальчивости… Мы тут с матерью о ней балакали. Немного повздорили. Особой-то мать ее назвала. Ты адрес ее знаешь?
– Так она у братьев-близнецов живет, за кирпичным заводом. Казимир Адамович у нас теперь в школе преподает. Математику. Он говорит, что Бога нет, а есть теория вероятностей и математическая статистика.
– Значит, будет в аду раскаленные сковороды лизать. Своим лживым языком. У чертей своя статистика.
Санька по-своему истолковала его адские посулы. Она притихла, помолчала и якобы безучастно спросила:
– А ты мог бы за веру убить?
– Как убить?
– В Афгане же ты душманов этих убивал. А они – мусульмане.
– Скажешь тоже: в Афгане… Там война была. И нас убивали. Глаза выкалывали. Уши, носы и кое-то другое отрезали.
– А Казимира нашего мог бы?
– Убить-то? Нет… – Отец Вассиан развел руками в знак полнейшей неспособности к подобным действиям.
– Жалко его. – Санька всхлипнула и часто заморгала. – Он добрый. Помолись, чтобы его там на небе простили.
– Молюсь. За всех молюсь. Это я так… стращаю. Вера-то не каждому дается.
– Ну, я пошла… – Санька смахнула слезинки и, слегка приподнявшись на цыпочки, поцеловала отца в висок.
– С Богом. – Отец Вассиан протянул ей сложенную вчетверо записку. – К братьям-близнецам и неси. А на обратном пути все-таки загляни к Полине Ипполитовне. Скажи, что я в среду у нее не буду. Страстная… нехорошо.
– Скажу, – пообещала Санька. – А Полина Ипполитовна мне на это что-нибудь свое скажет. Она же – особа… И к тому же ндравная, как о ней все говорят.
– Говорят, а ты не говори. Не повторяй. – Отец Вассиан что-то внушительное прибавил к этим словам глазами. – Скажешь, значит, осудишь.
– Я вообще молчу. – Санька считала это лучшим ответом на пожелание сказать одно и не говорить другого. – Я, как моя старшая сестра Павла, молчальница, безответная. В детском доме гроши получает и все терпит. С нее беру пример.
– Молчальница. Хоть бы в церковь разок зашла, а то этак и промолчит всю жизнь. – Отец Вассиан, отвлекшись на что-то, не уловил, сказал он это или только подумал. Поэтому на всякий случай повторил: – Хотя бы разок… в церковь-то. А то ведь ни разу..
Глава четвертая
Рыжий русский поп
Санька (хоть и жалостливая, но свистуха, рыжая бестия) накинула пальто, нацепила беретку – так, что казалось, будто она чудом держится на одном ухе. Затем стала натягивать сапоги, попрыгала на одной ноге (сбившийся шерстяной носок мешал как следует просунуть ногу) и убежала.
Отец Вассиан, проводив ее долгим взглядом, посмотрел на часы и прикинул, скоро ли свистуха вернется. Если нигде особо не задерживаться и с подружками не пустословить – не балясничать, – должна за полчаса обернуться. Или минут за сорок.
Чтобы время быстрей прошло, занялся наведением порядка. Он спрятал письмо в шкатулку для документов – на самое дно, под паспорта, диплом и воинский билет. Вращая черный валик, осторожно вынул переложенные копиркой и заправленные в пишущую машинку листы. Накрыл машинку крышкой, чтобы зря не пылилась.
Выключил радио, бубнившее одно и то же. Открыл Псалтырь на том месте, где лежала закладка – его фотография на привале, у ручья, вместе с афганской братвой.
Бравый вояка – каска набекрень. Серьга в ухе, вздернутый нос. Из-под каски выбился рыжий чуб. Таким был до осколочного ранения и ожога (до черноты опалило подбородок и нижнюю губу), чуть не лишивших его жизни.
А сейчас вместо вояки – рыжий русский поп. Подрясник и крест на животе. Или все-таки, хоть и поп, а вояка?
Спрятал фотографию и стал читать Псалтырь (всегда успокаивало) – по несколько раз одну и ту же строчку, поскольку мысли где-то витали и смысл ускользал.
Через полчаса с минутами вернулась дочь, что-то насвистывая (мальчишеские замашки). Включила радио (не выносила тишины).
Отец Вассиан строго спросил:
– Передала?
– Угу. – Уже успела что-то сунуть в рот. Прожевала, проглотила и выговорила более внятно: – Передала, передала.
– В руки?
– В ноги, – огрызнулась Санька, не любившая дотошных расспросов.
– Как с отцом разговариваешь! И что Люба? При тебе прочла?
– Да, сразу, при мне.
– И что сказала?
– Сначала ничего не сказала. Охнула, побледнела и взялась за сердце. Записку порвала. – Санька отвечала, как на экзамене, старалась ничего не упустить. – Села, свесила голову, сложила руки на коленях. Мол, что ж теперь делать? А затем сказала про брата своего Евгения – того, что в Питере. Мол, напишет ему или позвонит с почты по междугороднему.
– Зачем?
– Чтобы приехал ее утешать и спасать.
– Евгений-то? Тю… Да я его еще босым и голопузым помню, как он по улицам бегал, пыль пятками вышибал, Евгений-то этот. Теперь же он – гляди-ка – спасатель.
– Сам на него гляди.
– Ладно, погляжу, как приедет. Слыхал, он учености набрался. Богослов! Догматику и апологетику изучает. Вот и проверим, какой он богослов. Ты записку сама-то прочла?
– Ну, конечно. Само собой…
– Все поняла? До всего дозналась?
– А то! Я этого Вялого как огня боюсь. Он нашей химичке, помню, ножом угрожал из-за того, что она в клубе танцевать с ним отказывалась. Зачем ты ему срок скостил, на волю вытащил? Сидел бы там и сидел.
– А ты разве не знаешь, что и меня когда-то добрые люди взяли на поруки и от тюрьмы избавили? Я ведь по глупости, по недомыслию угодил. Я им по гроб благодарен буду. И на мне теперь, как ни крути, долг – тот, что платежом красен. Я теперь должен за кого-то ручаться, разве нет? К тому же Вялый-то – он ведь в Бога верует. И в Афганистане со мной служил. А это свято.
Саньку эти слова как будто убедили, хотя и не до конца: в мыслях осталось сомнение.