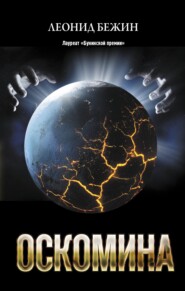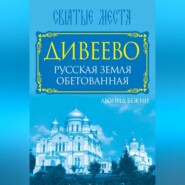По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Подлинная история Любки Фейгельман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что молчишь? Язык проглотил? – добродушно пошутил генерал.
– Так точно.
– Вот заладил. Расскажи, с кем дружишь, в какие игры играете? Небось, все в казаков-разбойников? Или на деньги в расшибец?
И тут я нашелся.
– Дружу с Владимиром Эс… Симоновым, – назвал я его по фамилии и не ошибся, потому что генерал сказал:
– А, с Володькой… он славный, настоящий казак. Он мне как сын.
И тут, сам не знаю с чего, но меня понесло, как лодку на прибрежные рифы.
– Он и есть ваш сын, – шепнул я онемевшими губами, чувствуя, как мою лодку закружило, подняло волной и сейчас разобьет в щепки о рифы.
– Что ты там бормочешь, казак? Не слышу.
– Он и есть ваш сын, – повторил я чуть громче.
– Что-о-о?! – протянул генерал, оглядываясь по сторонам и словно желая удостовериться, что этого никто кроме него не слышал. – Ты с ума спятил?
Я испуганно прикрыл рот ладонью и готов был укусить себя за палец, как будто боль была для меня желаннее страха.
– Так точно.
– С чего ты взял, что он мой сын?
– Так у нас говорят. Говорят, что Эльза Ивановна немая, то есть немка, а Вовчик Симонов немой, потому что молчит о своем настоящем отце.
Генерал откинулся на подушки.
– Уф! Ну и накрутили, навязали узлов – не распутать. И как же к нему все относятся, раз такое о нем говорят?
– Жалеют его и за него боятся.
– Это почему же?
Мою лодку снова вынесло на гребень волны.
– Потому что он носит с собой большой ржавый гвоздь.
– Вот те раз! И что за гвоздь? – отчужденно, полубрезгливо спросил генерал.
– Ну, гвоздь… – сказал я так, словно был не в ладах с возможными ответами на вопрос, какие бывают гвозди.
– Что за гвоздь, спрашиваю? – гаркнул генерал.
– Гвоздь из гроба товарища Кирова, – отрапортовал я по-солдатски.
Генерал помрачнел.
– И он всем этот гвоздь показывает?
– Да, всему двору.
– Всему двору, всему двору… – задумчиво произнес генерал.
– А еще у нас говорят, что вы спасли от ареста отчима вашего сына.
Сам не знаю, так это или не так (мало ли о чем у нас говорили), но от отчаяния я это сказал. Сказал и опрометью выбежал вон из генеральского кабинета. Самого генерала я ни о чем не просил, да и не думаю, что это было в его власти – спасать соседей по двору. Но все времена, называемые страшными и ужасными, имеют в себе нечто причудливое, похожее на цирковой трюк или фокус. Кого-то уложили в ящик и распилили, а он – целехонек. Иначе как объяснить, что после нашего разговора аресты во дворе прекратились – прекратились на старике Черепанове, дедушке Вити Черепанова. Дед Вити столярничал на Лубянке – его взяли последним. Его было, конечно, жаль, и все-таки весь наш двор вздохнул с облегчением. Стало ясно, что до осени как-нибудь доживем…
Через много лет наш Особист окончил суворовское училище – в числе первых, с отличными отметками и характеристиками. Генерал ему покровительствовал и продвигал по службе. Он же, по слухам, устроил его в особый отдел одной привилегированной части. Уже как особист он переехал с семьей (его женой стала Маруся Собакина) в ведомственный дом напротив Нескучного сада. Там тихо, над аллеями стелется дымка тумана, повсюду – скамейки, мостики, овраги, и есть чудесные уголки. Поэтому его дети во дворе не гуляют (не живут, по нашим понятиям) – они гуляют с няней в Нескучном саду.
26 декабря 2017 года
Король ладейных эндшпилей
(рассказ)
Я живу в Сивцевом Вражке. За утренним чаем я решаю шахматные задачи, награждая себя за правильный ответ кусочком бисквита с изюмом, а вечерами, заложив руки за спину, гуляю поблизости от дома – по Гоголевскому и Никитскому бульварам. Там приятно посидеть, вытянув ноги и созерцая с видом завзятого натуралиста, как через башмак переползает изумрудно-зеленая гусеница, перебирая множеством своих волосяных ножек. Или же я благодушно наблюдаю, как мальчишка на велосипеде, не желая меня объехать, норовит протаранить мне ноги передним колесом и тем самым лишить законного жизненного пространства.
Иногда я, влекомый страстью нежной (к шахматам, разумеется, и только к шахматам), захожу подальше, нежели Гоголевский и Никитский – на Тверской бульвар, куда с недавних пор переместилась шахматная Мекка. Кого там только не встретишь за шахматной доской: и обтрепанных дворомыг, любящих прибарахлиться в модном салоне, именуемом помойкой, и респектабельных джентльменов, напротив, одевающихся на помойке, выдающей себя за модный салон. И седовласых консерваторских профессоров, водивших некогда знакомство со стариком Гольденвейзером, игравшим для Льва Толстого, и уличных музыкантов, которые когда-то сидели в лучших оркестрах, а теперь опустились до лабухов.
Впрочем, почему опустились? Многие из них не утратили сноровки, и пальцы у них по-прежнему бегают. При этом они и в шахматах преподносят мне сюрпризы экзотическими дебютными построениями и филигранными эндшпилями.
С одной такой компанией я даже… не сказать, подружился, а сошелся благодаря шахматам. Мы засиживались с ними до позднего вечера, до самой темноты, но они никогда не уходили раньше меня. Меня же провожали с облегчением, словно я мог помешать какому-то их занятию, оставленному напоследок. Меня взяло любопытство, и однажды я не стал торопиться с уходом, стараясь не замечать чувства неловкости, возникшего у них при этом. Им явно хотелось меня поскорее спровадить, словно жрецам некоего тайного культа, ожидавшим пришествия своей богини.
«Что же это за богиня, однако?» – думал я, весьма скептически настроенный к подобным пришествиям, тем более поздним вечером, когда единственное окно, светившееся в здании МХАТа напротив нас, и то погасло.
И тут она и впрямь явилась, моя богиня, – неожиданно возникла за их спинами, обернувшись прекрасной женщиной, элегантно одетой, с артистически повязанным шарфиком и теми характерными чертами лица, кои сразу выдают ее близость театральной сцене и кинематографу. Я не особый театрал и уж тем более не завсегдатай душных кинотеатров, но не мог не узнать ее. И если у меня возникло некоторое сомнение, то оно было вызвано тем, что она выбрала для себя не совсем подходящую компанию.
«Боже мой, неужели все-таки она?!» – я, конечно же, верил и в то же время не мог до конца поверить своим глазам.
Мои же лабухи, ничуть не смутившись, взялись за инструменты и с восторженным надсадом исполнили в ее честь всем известный помпезный оперный марш.
– Неужто вы с ней знакомы? – спросил я контрабасиста, когда, отыграв свою партию и проводив завороженным взглядом богиню, он снова сел рядом со мной.
И этот высокий, сутулый контрабасист в выглядывавшей из-под плаща женской кофте и вязаных перчатках с отрезанными пальцами рассказал мне историю. Историю – не знаю, насколько правдивую, но я, вернувшись к себе в Сивцев Вражек, торопливо записал ее. Записав же, перечитал, умилился и поверил, что правды в ней больше, чем вымысла. Или, вернее, присутствующий в ней вымысел – это самая чистая правда.
I
На дворе двухтысячный год, август, лишь временами душноватый, с полымем дальних зарниц, а так – сплошная мерехлюндия, знобкий, пронизывающий ветер, вывернутые изнанкой наружу зонты, затяжные дожди. Не каждый день и на бульвар-то выйдешь…
Девяностые годы отшумели и благополучно канули в Лету, завершились всеобщим раздраем, криминальными разборками, великим переделом – вторым после большевиков, но тот, большевистский, свершился громогласно, под шелест знамен, под залпы товарища маузера, а этот большей частью втихую, шепотком, по договоренности с новыми властями. И если неугодных убирали, как битые пешки с шахматной доски, то и это совершалось неслышно, аккуратно, с глушителем. Были, конечно, и взрывы – бум-трам-тарарам, но это больше напоказ, на публику, для устрашения, как в театре изображают грозу, погромыхивая за сценой листовым железом.
Впрочем, меня больше заботит другое. Сколько музыкантов за эти срамные годы по миру пошло. Сколько оркестров распалось – в том числе и мой академический, где я высидел (вернее, выстоял) двадцать лет с моим бубнилой контрабасом и в результате получил пинком под зад. Распластался плашмя в грязи. Ободрал в кровь ладони и колени. Оказался на улице.
У нас во дворе (я вырос на Самотеке), помню, распевали дразнилку: