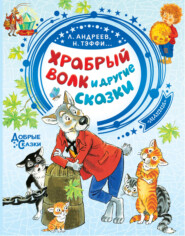По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Анатэма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Давид. Но люди злы и порочны, и голодный ближе к богу, чем сытый.
Анатэма. Вспомни Ханну и Вениамина…
Давид. Молчи!
Анатэма. Вспомни Рафаила и маленького Мойше…
Давид (в тоске). Молчи, молчи!
Анатэма. Вспомни своих маленьких птичек, умерших на холодных ветвях зимы…
Давид горько плачет.
Когда звенит жаворонок в голубом небе, скажешь ли ты ему: молчи, маленькая птица, – богу не нужна твоя песнь? И не дашь ли ты ему зерна, когда он голоден? И не укроешь ли на груди от мороза, чтобы тепло ему было и мог бы он сохранить свой голос до весны? Кто же ты, несчастный, не жалеющий птиц и детей отдающий ненастью? Вспомни, как умирал твой маленький Мойше. Вспомни, Давид, и скажи: люди порочны и злы и недостойны милости моей.
Как бы под страшною тяжестью Давид подгибает колена и поднимает руки, словно защищая голову от удара с неба. Хрипит.
Давид. Адэной, Адэной!
Анатэма, сложив руки на груди, молча смотрит на него. Он мрачен.
Пощады! Пощады!
Анатэма (быстро). Давид, бедные ждут тебя. Они сейчас уйдут.
Давид. Нет, нет!
Анатэма. Бедные всегда ждут, но они устают ждать и уходят.
Давид (страстно). От меня они не уйдут. Ах, Нуллюс, Нуллюс… Ах, умный Нуллюс, ах, глупый Нуллюс, да неужели ты не понял, что уже давно жду я бедных и голос их в ушах и сердце моем. Когда едут колеса по пыльной дороге, примятой дождем, то думают они, кружась и оставляя след: вот мы делаем дорогу. А дорога была, Нуллюс, дорога-то уже была! (Весело.) Зови бедняков сюда!
Анатэма. Подумай, Давид, кого ты зовешь. (Мрачно.) Не обмани меня, Давид!
Давид. Я никогда не обманывал, Нуллюс. (Решительно и величаво.) Ты говорил – я молчал и слушал, теперь ты молчи и слушай меня: ибо не человеку, но богу отдал я душу свою, и власть его на мне. И я приказываю тебе: призови сюда жену мою Суру и детей моих, Наума и Розу, и всех домочадцев моих, какие только есть.
Анатэма (покорно). Призову.
Давид. И призови бедных, какие ждут меня во дворе. И, выйдя на улицу, взгляни, нет ли и там бедных, ожидающих меня, и если увидишь, то призови и их. Ибо их жаждою горят мои уста, и их голодом ненасытимо страждет чрево мое, и пред лицом народа тороплюсь я возвестить о моей последней и непреклонной воле. Иди.
Анатэма (покорно). Твоя воля на мне.
Анатэма уходит, до самой двери напутствуемый повелительным жестом Давида. Молчание.
Давид. Дух божий пронесся надо мною, и волосы поднялись на голове моей. Адэной, Адэной… Кто, страшный, вещал голосом старого Нуллюса, когда заговорил он о моих маленьких умерших детях? Только стрела, пущенная из лука всезнающего, так метко попадает в самое сердце. Мои маленькие птички… Воистину на краю бездны удержал ты меня и из когтей дьявола ты вырвал мой дух. Слепнет тот, кто смотрит прямо на солнце, но вот проходит время и возвращается свет воскресшим очам; но навсегда слепнет тот, кто смотрит во тьму. Мои маленькие птички… (Вдруг смеется тихо и радостно и шепчет.) Я сам понесу им хлеб и молоко, я спрячусь за пологом, чтобы не видели меня, – дети так нежны и пугливы и боятся незнакомых людей, у меня же такая страшная борода. (Смеется.) Я спрячусь за пологом и буду смотреть, как кушают они. Им нужно так мало: съедят корочку хлеба и сыты, выпьют кружку молока и уже не знают жажды. Потом поют… Но как странно: разве не уходит ночь, когда приходит солнце, разве с концом бури не ложатся волны спокойно и тихо, как овцы, отдыхающие на пастбище, – откуда же тревога, смятение легкое и страх? Тени неведомых бедствий проносятся над моей душою и реют бесшумно над мыслями моими. Ах, остаться бы мне бедным, быть бы мне незнаемым, прозябать бы мне в тени забора, где сваливают мусор… На вершину горы ты поднял меня и миру явишь мое старое, печальное лицо. Но такова воля твоя. Ты повелишь – и ягненок станет львом, ты повелишь – и яростная львица протянет младенцам сосцы свои, полные силы, ты повелишь – и Давид Лейзер, побелевший в тени, бесстрашно поднимется к солнцу. Адэной! Адэной!
Входят встревоженные Сура, Наум и Роза.
Сура. Зачем ты призвал нас, Давид? И почему так строг был твой Нуллюс, когда передавал нам приказание? Мы ничем не провинились перед тобою, а если провинились, то исследуй, но не смотри так строго.
Роза. Можно сесть?
Давид. Молчите и ждите. Еще не все пришли, кого я звал. Ты же, Роза, сядь, если устала, но когда настанет время – встань. Присядь и ты, Наум.
Нерешительно входит прислуга: лакей, похожий на английского министра, горничная, повар, садовник, судомойка и другие. Смущенно топчутся. Почти тотчас же входят кучками бедняки, человек пятнадцать-двадцать. Среди них Абрам Хессин, старик; девочка от Сонки, Иосиф Крицкий, Сарра Липке и еще несколько евреев и евреек. Но есть и греки, и молдаване, и рус– ские, и просто загрызенные жизнью бедняки, национальность которых теряется в безличности лохмотьев и грязи; двое пьяных. Тут же грек Пурикес, Иван Бескрайний и шарманщик, со своею все тою же облезлой и скрипучей машиной. Но Анатэмы еще нет.
Давид. Прошу вас, прошу вас. Входите же смелей и не останавливайтесь на пороге, за вами идут еще. Но было бы хорошо, если бы вытирали ноги: этот богатый дом не мой, и я должен вернуть его чистым, как и получил.
Хессин. Мы еще не научились ходить по коврам, и у нас нет лаковых ботинок, как у вашего сына Наума. Здравствуйте, Давид Лейзер. Мир вашему дому!
Давид. Мир и тебе, Абрам. Но зачем ты так пышно зовешь меня Давидом Лейзером, когда прежде звал просто Давидом?
Хессин. Вы теперь такой могущественный человек, Давид Лейзер. Да, прежде я звал вас Давидом, но вот я жду вас во дворе, и чем я больше жду, тем длиннее становится ваше имя, господин Давид Лейзер.
Давид. Ты прав, Абрам: когда заходит солнце, длиннее становятся тени, и когда человек умаляется – имя его вырастает. Но подожди, Абрам, еще.
Лакей (пьяному). Вы бы отодвинулись от меня.
Пьяный. Молчи, дурак! Ты здесь лакей, а мы в гостях.
Лакей. Хам! Ты тут не в конке, чтобы плевать на пол.
Пьяный. Господин Лейзер, какой-то человек, похожий на старого черта, схватил меня за шиворот и сказал: тебя зовет Давид Лейзер, который получил наследство. И я спросил – это зачем? Он же ответил: Давид хочет тебя сделать своим наследником – и засмеялся. А когда я пришел, ваш лакей гонит меня.
Давид (улыбаясь). Нуллюс – веселый человек и никогда не упускает случая, чтобы пошутить. Но вы мой гость, и я прошу вас, подождите.
Сура (после некоторого колебания не выдерживает). Ну как у вас торговля, Иван? Теперь у вас меньше конкурентов?
Бескрайний. Плохо, Сура: покупателей нет.
Пурикес (как эхо). Покупателей нет.
Сура (жалеет). Ай-ай-ай! Это плохо, когда нет покупателей.
Роза. Молчи, мама, – не хочешь ли ты вновь вымазать сажей мое лицо?
Толкая впереди себя нескольких бедняков, входит Анатэма, – он, видимо, устал и запыхался.
Анатэма. Ну вот, Давид, получайте пока это. Ваши миллионы пугают бедняков, и никто не хотел идти за мною, думая, что здесь кроется обман.
Пьяный. Вот этот человек схватил меня за шиворот.
Анатэма. Ах это вы? Здравствуйте, здравствуйте.
Давид. Благодарю тебя, Нуллюс. Теперь же возьми чернила и бумагу и сядь возле меня за столом; мне же подай мои старые счеты… Так как все, что я буду говорить, очень важно, то, прошу тебя, записывай точно и не ошибайся – в каждом слове нашем мы дадим отчет богу. Вас же всех прошу встать и слушать внимательно, вникая в смысл великих слов, которые я произнесу. (Строго.) Встань, Роза.
Сура. Боже, сжалься над нами! Что ты хочешь делать, Давид?
Давид. Молчи, Сура. Ты пойдешь за мною.