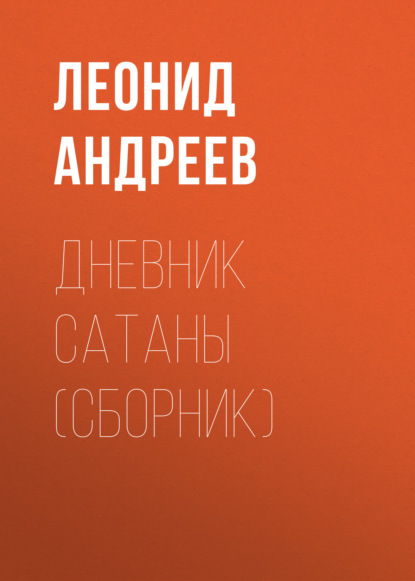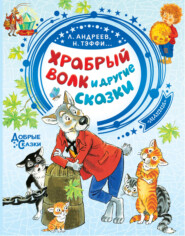По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дневник Сатаны (сборник)
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, неладно, – вздохнул он и нахмурился, скрывшись в облаке табачного дыма. – Я сам бы уехал отсюда, если бы можно было.
И, наклонившись ко мне, прошептал сквозь желтые, закопченные усы:
– Скоро наступит такой момент, когда уже никто отсюда не уедет. Да. Ни я, никто.
И в близких старых глазах его я увидел то же остановившееся, тупо пораженное. И что-то ужасное, нестерпимое, похожее на падение тысячи зданий, мелькнуло в моей голове, и, холодея от ужаса, я прошептал:
– Красный смех.
И он был первый, кто понял меня. Он поспешно закивал головою и подтвердил:
– Да. Красный смех.
Совсем близко подсев ко мне и озираясь по сторонам, он зашептал учащенно, по-стариковски двигая острой седенькой бородкой:
– Вы скоро уедете, и вам я скажу. Вы видели когда-нибудь драку в сумасшедшем доме? Нет? А я видел. И они дрались, как здоровые. Понимаете, как здоровые!
Он несколько раз многозначительно повторил эту фразу.
– Так что же? – так же шепотом и испуганно спросил я.
– Ничего. Как здоровые!
– Красный смех, – сказал я.
– Их разлили водой.
Я вспомнил дождь, который так напугал нас, и рассердился.
– Вы с ума сошли, доктор!
– Не больше, чем вы. Во всяком случае, не больше.
Он охватил руками острые старческие колени и захихикал, и, косясь на меня через плечо, еще храня на сухих губах отзвуки этого неожиданного и тяжелого смеха, он несколько раз лукаво подморгнул мне, как будто мы с ним только двое знали что-то очень смешное, чего не знает никто. Потом с торжественностью профессора магии, показывающего фокусы, он высоко поднял руку, плавно опустил ее и осторожно, двумя пальцами коснулся того места одеяла, под которым находились бы мои ноги, если бы их не отрезали.
– А это вы понимаете? – таинственно спросил он.
Потом так же торжественно и многозначительно обвел рукою ряды кроватей, на которых лежали раненые, и повторил:
– А это вы можете объяснить?
– Раненые, – сказал я. – Раненые.
– Раненые, – как эхо, повторил он. – Раненые. Без ног, без рук, с прорванными животами, размолотой грудью, вырванными глазами. Вы это понимаете? Очень рад. Значит, вы поймете и это?..
С гибкостью, неожиданною для его возраста, он перекинулся вниз и стал на руки, балансируя в воздухе ногами. Белый балахон завернулся вниз, лицо налилось кровью, и, упорно смотря на меня странным перевернутым взглядом, он с трудом бросал отрывистые слова:
– А это… вы также… понимаете?
– Перестаньте, – испуганно зашептал я. – А то я закричу.
Он перевернулся, принял естественное положение, сел снова у моей кровати и, отдуваясь, наставительно заметил:
– И никто этого не понимает.
– Вчера опять стреляли.
– И вчера стреляли. И третьего дня стреляли, – утвердительно мотнул он головой.
– Я хочу домой! – с тоскою сказал я. – Доктор, милый, я хочу домой. Я не могу здесь оставаться. Я перестаю верить, что есть дом, где так хорошо.
Он думал о чем-то и не отвечал, и я заплакал:
– Господи, у меня нет ног. Я так любил ездить на велосипеде, ходить, бегать, а теперь у меня нет ног. На правой ноге я качал сына, и он смеялся, а теперь… Будьте вы прокляты! Зачем я поеду? Мне только тридцать лет… Будьте вы прокляты!
И я рыдал, рыдал, вспоминая о милых ногах моих, моих быстрых, сильных ногах. Кто отнял их у меня, кто смел их отнять!
– Слушайте, – сказал доктор, глядя в сторону. – Вчера я видел: к нам пришел сумасшедший солдат. Неприятельский солдат. Он был раздет почти догола, избит, исцарапан и голоден, как животное; он весь зарос волосами, как заросли и мы все, и был похож на дикаря, на первобытного человека, на обезьяну. Он размахивал руками, кривлялся, пел и кричал и лез драться. Его накормили и выгнали назад – в поле. Куда же их девать? Дни и ночи оборванными, зловещими призраками бродят они по холмам взад, и вперед, и во всех направлениях, без дороги, без цели, без пристанища. Размахивают руками, хохочут, кричат и поют, и когда встречаются, то вступают в драку, а быть может, не видят друг друга и проходят мимо. Чем они питаются? Вероятно, ничем, а быть может, трупами, вместе со зверями, вместе с этими толстыми, отъевшимися одичалыми собаками, которые целые ночи дерутся на холмах и визжат. По ночам, как птицы, разбуженные бурей, как уродливые мотыльки, они собираются на огонь, и стоит развести костер от холода, чтобы через полчаса около него вырос десяток крикливых, оборванных, диких силуэтов, похожих на озябших обезьян. В них стреляют иногда по ошибке, иногда нарочно, выведенные из терпения их бестолковым, пугающим криком…
– Я хочу домой! – кричал я, затыкая уши.
И, словно сквозь вату, глухо и призрачно долбили мой измученный мозг новые ужасные слова:
– …Их много. Они умирают сотнями в пропастях, в волчьих ямах, приготовленных для здоровых и умных, на остатках колючей проволоки и кольев; они вмешиваются в правильные, разумные сражения и дерутся, как герои – всегда впереди, всегда бесстрашные; но часто бьют своих. Они мне нравятся. Сейчас я только еще схожу с ума и оттого сижу и разговариваю с вами, а когда разум окончательно покинет меня, я выйду в поле – я выйду в поле, я кликну клич – я кликну клич, я соберу вокруг себя этих храбрецов, этих рыцарей без страха, и объявлю войну всему миру. Веселой толпой, с музыкой и песнями, мы войдем в города и села, и где мы пройдем, там все будет красно, так все будет кружиться и плясать, как огонь. Те, кто не умер, присоединятся к нам, и наша храбрая армия будет расти, как лавина, и очистит весь этот мир. Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить?..
Он уже кричал, этот сумасшедший доктор, и криком своим точно разбудил заснувшую боль тех, у кого были изорваны груди и животы, и вырваны глаза, и обрублены ноги. Широким, скребущим, плачущим стоном наполнилась палата, и отовсюду к нам повернулись бледные, желтые, изможденные лица, иные без глаз, иные в таком чудовищном уродстве, как будто из ада вернулись они. И они стонали и слушали, и в открытую дверь осторожно заглядывала черная бесформенная тень, поднявшаяся над миром, и сумасшедший старик кричал, простирая руки:
– Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы будем убивать, и грабить, и жечь. Веселая, беспечная ватага храбрецов – мы разрушим все: их здания, их университеты и музеи; веселые ребята, полные огненного смеха, – мы попляшем на развалинах. Отечеством нашим я объявлю сумасшедший дом; врагами нашими и сумасшедшими – всех тех, кто еще не сошел с ума; и когда великий, непобедимый, радостный, я воцарюсь над миром, единым его владыкою и господином, – какой веселый смех огласит вселенную!
– Красный смех! – закричал я, перебивая. – Спасите! Опять я слышу красный смех!
– Друзья! – продолжал доктор, обращаясь к стонущим, изуродованным теням. – Друзья! У нас будет красная луна и красное солнце, и у зверей будет красная веселая шерсть, и мы сдерем кожу с тех, кто слишком бел, кто слишком бел… Вы не пробовали пить кровь? Она немного липкая, она немного теплая, но она красная, и у нее такой веселый красный смех!..
Отрывок седьмой
…это было безбожно, это было беззаконно. Красный Крест уважается всем миром, как святыня, и они видели, что это идет поезд не с солдатами, а с безвредными ранеными, и они должны были предупредить о заложенной мине. Несчастные люди, они уже грезили о доме…
Отрывок восьмой
…вокруг самовара, вокруг настоящего самовара, из которого пар валил, как из паровоза, – даже стекло в лампе немного затуманилось: так сильно шел пар. И чашечки были те же, синие снаружи и белые внутри, очень красивые чашечки, которые подарили нам еще на свадьбе. Сестра жены подарила – она очень славная и добрая женщина.
– Неужели все целы? – недоверчиво спросил я, мешая сахар в стакане серебряной чистой ложечкой.
– Одну разбили, – сказала жена рассеянно: она в это время держала отвернутым кран, и оттуда красиво и легко бежала горячая вода.
Я засмеялся.
– Чего ты? – спросил брат.
И, наклонившись ко мне, прошептал сквозь желтые, закопченные усы:
– Скоро наступит такой момент, когда уже никто отсюда не уедет. Да. Ни я, никто.
И в близких старых глазах его я увидел то же остановившееся, тупо пораженное. И что-то ужасное, нестерпимое, похожее на падение тысячи зданий, мелькнуло в моей голове, и, холодея от ужаса, я прошептал:
– Красный смех.
И он был первый, кто понял меня. Он поспешно закивал головою и подтвердил:
– Да. Красный смех.
Совсем близко подсев ко мне и озираясь по сторонам, он зашептал учащенно, по-стариковски двигая острой седенькой бородкой:
– Вы скоро уедете, и вам я скажу. Вы видели когда-нибудь драку в сумасшедшем доме? Нет? А я видел. И они дрались, как здоровые. Понимаете, как здоровые!
Он несколько раз многозначительно повторил эту фразу.
– Так что же? – так же шепотом и испуганно спросил я.
– Ничего. Как здоровые!
– Красный смех, – сказал я.
– Их разлили водой.
Я вспомнил дождь, который так напугал нас, и рассердился.
– Вы с ума сошли, доктор!
– Не больше, чем вы. Во всяком случае, не больше.
Он охватил руками острые старческие колени и захихикал, и, косясь на меня через плечо, еще храня на сухих губах отзвуки этого неожиданного и тяжелого смеха, он несколько раз лукаво подморгнул мне, как будто мы с ним только двое знали что-то очень смешное, чего не знает никто. Потом с торжественностью профессора магии, показывающего фокусы, он высоко поднял руку, плавно опустил ее и осторожно, двумя пальцами коснулся того места одеяла, под которым находились бы мои ноги, если бы их не отрезали.
– А это вы понимаете? – таинственно спросил он.
Потом так же торжественно и многозначительно обвел рукою ряды кроватей, на которых лежали раненые, и повторил:
– А это вы можете объяснить?
– Раненые, – сказал я. – Раненые.
– Раненые, – как эхо, повторил он. – Раненые. Без ног, без рук, с прорванными животами, размолотой грудью, вырванными глазами. Вы это понимаете? Очень рад. Значит, вы поймете и это?..
С гибкостью, неожиданною для его возраста, он перекинулся вниз и стал на руки, балансируя в воздухе ногами. Белый балахон завернулся вниз, лицо налилось кровью, и, упорно смотря на меня странным перевернутым взглядом, он с трудом бросал отрывистые слова:
– А это… вы также… понимаете?
– Перестаньте, – испуганно зашептал я. – А то я закричу.
Он перевернулся, принял естественное положение, сел снова у моей кровати и, отдуваясь, наставительно заметил:
– И никто этого не понимает.
– Вчера опять стреляли.
– И вчера стреляли. И третьего дня стреляли, – утвердительно мотнул он головой.
– Я хочу домой! – с тоскою сказал я. – Доктор, милый, я хочу домой. Я не могу здесь оставаться. Я перестаю верить, что есть дом, где так хорошо.
Он думал о чем-то и не отвечал, и я заплакал:
– Господи, у меня нет ног. Я так любил ездить на велосипеде, ходить, бегать, а теперь у меня нет ног. На правой ноге я качал сына, и он смеялся, а теперь… Будьте вы прокляты! Зачем я поеду? Мне только тридцать лет… Будьте вы прокляты!
И я рыдал, рыдал, вспоминая о милых ногах моих, моих быстрых, сильных ногах. Кто отнял их у меня, кто смел их отнять!
– Слушайте, – сказал доктор, глядя в сторону. – Вчера я видел: к нам пришел сумасшедший солдат. Неприятельский солдат. Он был раздет почти догола, избит, исцарапан и голоден, как животное; он весь зарос волосами, как заросли и мы все, и был похож на дикаря, на первобытного человека, на обезьяну. Он размахивал руками, кривлялся, пел и кричал и лез драться. Его накормили и выгнали назад – в поле. Куда же их девать? Дни и ночи оборванными, зловещими призраками бродят они по холмам взад, и вперед, и во всех направлениях, без дороги, без цели, без пристанища. Размахивают руками, хохочут, кричат и поют, и когда встречаются, то вступают в драку, а быть может, не видят друг друга и проходят мимо. Чем они питаются? Вероятно, ничем, а быть может, трупами, вместе со зверями, вместе с этими толстыми, отъевшимися одичалыми собаками, которые целые ночи дерутся на холмах и визжат. По ночам, как птицы, разбуженные бурей, как уродливые мотыльки, они собираются на огонь, и стоит развести костер от холода, чтобы через полчаса около него вырос десяток крикливых, оборванных, диких силуэтов, похожих на озябших обезьян. В них стреляют иногда по ошибке, иногда нарочно, выведенные из терпения их бестолковым, пугающим криком…
– Я хочу домой! – кричал я, затыкая уши.
И, словно сквозь вату, глухо и призрачно долбили мой измученный мозг новые ужасные слова:
– …Их много. Они умирают сотнями в пропастях, в волчьих ямах, приготовленных для здоровых и умных, на остатках колючей проволоки и кольев; они вмешиваются в правильные, разумные сражения и дерутся, как герои – всегда впереди, всегда бесстрашные; но часто бьют своих. Они мне нравятся. Сейчас я только еще схожу с ума и оттого сижу и разговариваю с вами, а когда разум окончательно покинет меня, я выйду в поле – я выйду в поле, я кликну клич – я кликну клич, я соберу вокруг себя этих храбрецов, этих рыцарей без страха, и объявлю войну всему миру. Веселой толпой, с музыкой и песнями, мы войдем в города и села, и где мы пройдем, там все будет красно, так все будет кружиться и плясать, как огонь. Те, кто не умер, присоединятся к нам, и наша храбрая армия будет расти, как лавина, и очистит весь этот мир. Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить?..
Он уже кричал, этот сумасшедший доктор, и криком своим точно разбудил заснувшую боль тех, у кого были изорваны груди и животы, и вырваны глаза, и обрублены ноги. Широким, скребущим, плачущим стоном наполнилась палата, и отовсюду к нам повернулись бледные, желтые, изможденные лица, иные без глаз, иные в таком чудовищном уродстве, как будто из ада вернулись они. И они стонали и слушали, и в открытую дверь осторожно заглядывала черная бесформенная тень, поднявшаяся над миром, и сумасшедший старик кричал, простирая руки:
– Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы будем убивать, и грабить, и жечь. Веселая, беспечная ватага храбрецов – мы разрушим все: их здания, их университеты и музеи; веселые ребята, полные огненного смеха, – мы попляшем на развалинах. Отечеством нашим я объявлю сумасшедший дом; врагами нашими и сумасшедшими – всех тех, кто еще не сошел с ума; и когда великий, непобедимый, радостный, я воцарюсь над миром, единым его владыкою и господином, – какой веселый смех огласит вселенную!
– Красный смех! – закричал я, перебивая. – Спасите! Опять я слышу красный смех!
– Друзья! – продолжал доктор, обращаясь к стонущим, изуродованным теням. – Друзья! У нас будет красная луна и красное солнце, и у зверей будет красная веселая шерсть, и мы сдерем кожу с тех, кто слишком бел, кто слишком бел… Вы не пробовали пить кровь? Она немного липкая, она немного теплая, но она красная, и у нее такой веселый красный смех!..
Отрывок седьмой
…это было безбожно, это было беззаконно. Красный Крест уважается всем миром, как святыня, и они видели, что это идет поезд не с солдатами, а с безвредными ранеными, и они должны были предупредить о заложенной мине. Несчастные люди, они уже грезили о доме…
Отрывок восьмой
…вокруг самовара, вокруг настоящего самовара, из которого пар валил, как из паровоза, – даже стекло в лампе немного затуманилось: так сильно шел пар. И чашечки были те же, синие снаружи и белые внутри, очень красивые чашечки, которые подарили нам еще на свадьбе. Сестра жены подарила – она очень славная и добрая женщина.
– Неужели все целы? – недоверчиво спросил я, мешая сахар в стакане серебряной чистой ложечкой.
– Одну разбили, – сказала жена рассеянно: она в это время держала отвернутым кран, и оттуда красиво и легко бежала горячая вода.
Я засмеялся.
– Чего ты? – спросил брат.