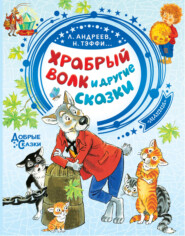По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мысль
Год написания книги
1902
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мысль
Леонид Николаевич Андреев
«Одиннадцатого декабря 1900 года доктор медицины Антон Игнатьевич Керженцев совершил убийство. Как вся совокупность данных, при которых совершилось преступление, так и некоторые предшествовавшие ему обстоятельства давали повод заподозрить Керженцева в ненормальности его умственных способностей.
Положенный на испытание в Елисаветинскую психиатрическую больницу, Керженцев был подвергнут строгому и внимательному надзору нескольких опытных психиатров, среди которых находился профессор Држембицкий, недавно умерший. Вот письменные объяснения, которые даны были по поводу происшедшего самим доктором Керженцевым через месяц после начала испытания; вместе с другими материалами, добытыми следствием, они легли в основу судебной экспертизы…»
Леонид Николаевич Андреев
Мысль
Одиннадцатого декабря 1900 года доктор медицины Антон Игнатьевич Керженцев совершил убийство. Как вся совокупность данных, при которых совершилось преступление, так и некоторые предшествовавшие ему обстоятельства давали повод заподозрить Керженцева в ненормальности его умственных способностей.
Положенный на испытание в Елисаветинскую психиатрическую больницу, Керженцев был подвергнут строгому и внимательному надзору нескольких опытных психиатров, среди которых находился профессор Држембицкий, недавно умерший. Вот письменные объяснения, которые даны были по поводу происшедшего самим доктором Керженцевым через месяц после начала испытания; вместе с другими материалами, добытыми следствием, они легли в основу судебной экспертизы.
Лист первый
До сих пор, гг. эксперты, я скрывал истину, но теперь обстоятельства вынуждают меня открыть ее. И, узнав ее, вы поймете, что дело вовсе не так просто, как это может показаться профанам: или горячечная рубашка, или кандалы. Тут есть третье – не кандалы и не рубашка, а, пожалуй, более страшное, чем то и другое, вместе взятое.
Убитый мною Алексей Константинович Савелов был моим товарищем по гимназии и университету, хотя по специальностям мы разошлись: я, как вам известно, врач, а он окончил курс по юридическому факультету. Нельзя сказать, чтобы я не любил покойного; он всегда был мне симпатичен, и более близких друзей, чем он, я никогда не имел. Но при всех симпатичных свойствах, он не принадлежал к тем людям, которые могут внушить мне уважение. Удивительная мягкость и податливость его натуры, странное непостоянство в области мысли и чувства, резкая крайность и необоснованность его постоянно менявшихся суждений заставляли меня смотреть на него, как на ребенка или женщину. Близкие ему люди, нередко страдавшие от его выходок и вместе с тем, по нелогичности человеческой натуры, очень его любившие, старались найти оправдание его недостаткам и своему чувству и называли его «художником». И действительно, выходило так, будто это ничтожное слово совсем оправдывает его и то, что для всякого нормального человека было бы дурным, делает безразличным и даже хорошим. Такова была сила придуманного слова, что даже я одно время поддался общему настроению и охотно извинял Алексею его мелкие недостатки. Мелкие – потому, что к большим, как ко всему крупному, он был неспособен. Об этом достаточно свидетельствуют и его литературные произведения, в которых все мелко и ничтожно, что бы ни говорила близорукая критика, падкая на открытие новых талантов. Красивы и ничтожны были его произведения, красив и ничтожен был он сам.
Когда Алексей умер, ему было тридцать один год, – на один с немногим год моложе меня.
Алексей был женат. Если вы видели его жену, теперь, после его смерти, когда на ней траур, вы не можете составить представления о том, какой красивой была она когда-то: так сильно, сильно она подурнела. Щеки серые, и кожа на лице такая дряблая, старая-старая, как поношенная перчатка. И морщинки. Это сейчас морщинки, а еще год пройдет – и это будут глубокие борозды и канавы: ведь она так его любила! И глаза ее теперь уже не сверкают и не смеются, а прежде они всегда смеялись, даже в то время, когда им нужно было плакать. Всего одну минуту видел я ее, случайно столкнувшись с нею у следователя, и был поражен переменой. Даже гневно взглянуть на меня она не могла. Такая жалкая!
Только трое – Алексей, я и Татьяна Николаевна – знали, что пять лет тому назад, за два года до женитьбы Алексея, я делал Татьяне Николаевне предложение и оно было отвергнуто. Конечно, это только предполагается, что трое, а, наверное, у Татьяны Николаевны есть еще десяток подруг и друзей, подробно осведомленных о том, как однажды доктор Керженцев возмечтал о браке и получил унизительный отказ. Не знаю, помнит ли она, что она тогда засмеялась; вероятно, не помнит – ей так часто приходилось смеяться. И тогда напомните ей: пятого сентября она засмеялась. Если она будет отказываться – а она будет отказываться, – то напомните, как это было. Я, этот сильный человек, который никогда не плакал, который никогда ничего не боялся, – я стоял перед нею и дрожал. Я дрожал и видел, как кусает она губы, и уже протянул руку, чтобы обнять ее, когда она подняла глаза, и в них был смех. Рука моя осталась в воздухе, она засмеялась и долго смеялась. Столько, сколько ей хотелось. Но потом она все-таки извинилась.
– Извините, пожалуйста, – сказала она, а глаза ее смеялись.
И я тоже улыбнулся, и если бы я мог простить ей ее смех, то никогда не прощу этой своей улыбки. Это было пятого сентября, в шесть часов вечера, по петербургскому времени. По петербургскому, добавляю я, потому, что мы находились тогда на вокзальной платформе, и я сейчас ясно вижу большой белый циферблат и такое положение черных стрелок: вверх и вниз. Алексей Константинович был убит также ровно в шесть часов. Совпадение странное, но могущее открыть многое догадливому человеку.
Одним из оснований к тому, чтобы посадить меня сюда, было отсутствие мотива к преступлению. Теперь вы видите, что мотив существовал? Конечно, это не было ревностью. Последняя предполагает в человеке пылкий темперамент и слабость мыслительных способностей, то есть нечто прямо противоположное мне, человеку холодному и рассудочному. Месть? Да, скорее месть, если уж так необходимо старое слово для определения нового и незнакомого чувства. Дело в том, что Татьяна Николаевна еще раз заставила меня ошибиться, и это всегда злило меня. Хорошо зная Алексея, я был уверен, что в браке с ним Татьяна Николаевна будет очень несчастна и пожалеет обо мне, и поэтому я так настаивал, чтобы Алексей, тогда еще просто влюбленный, женился на ней. Еще только за месяц до своей трагической смерти он говорил мне:
– Это тебе я обязан своим счастьем. Правда, Таня?
А она смотрела на меня, говорила: «правда», и глаза ее улыбались. Я тоже улыбался. И потом мы все рассмеялись, когда он обнял Татьяну Николаевну – при мне они не стеснялись – и добавил:
– Да, брат, дал ты маху!
Эта неуместная и нетактичная шутка сократила его жизнь на целую неделю: первоначально я решил убить его восемнадцатого декабря.
Да, брак их оказался счастливым, и счастлива была именно она. Он любил Татьяну Николаевну не сильно, да и вообще он не был способен к глубокой любви. Было у него свое любимое дело – литература, выводившее его интересы за пределы спальни. А она любила только его и только им одним жила. Потом, он был нездоровый человек: частые головные боли, бессонница, и это, конечно, мучило его. А ей даже ухаживать за ним, больным, и выполнять его капризы было счастьем. Ведь когда женщина полюбит, она становится невменяемой.
И вот изо дня в день я видел ее улыбающееся лицо, ее счастливое лицо, молодое, красивое, беззаботное. И думал: это устроил я. Хотел дать ей беспутного мужа и лишить ее себя, а вместо того и мужа дал такого, которого она любит, и сам остался при ней. Вы поймете эту странность: она умнее своего мужа и беседовать любила со мной, а, побеседовав, – спать шла с ним и была счастлива.
Я не помню, когда впервые пришла мне мысль убить Алексея. Как-то незаметно она явилась, но уже с первой минуты стала такой старой, как будто я с нею родился. Я знаю, что мне хотелось сделать Татьяну Николаевну несчастной и что сперва я придумывал много других планов, менее гибельных для Алексея, – я всегда был врагом ненужной жестокости. Пользуясь своим влиянием на Алексея, я думал влюбить его в другую женщину или сделать его пьяницей (у него была к этому наклонность), но все эти способы не годились. Дело в том, что Татьяна Николаевна ухитрилась бы остаться счастливой, даже отдавая его другой женщине, слушая его пьяную болтовню или принимая его пьяные ласки. Ей нужно было, чтобы этот человек жил, а она так или иначе служила ему. Бывают такие рабские натуры. И, как рабы, они не могут понять и оценить чужой силы, не силы их господина. Были на свете женщины умные, хорошие и талантливые, но справедливой женщины мир еще не видал и не увидит.
Признаюсь искренно, не для того чтобы добиться ненужного мне снисхождения, а чтобы показать, каким правильным, нормальным путем создавалось мое решение, что мне довольно долго пришлось бороться с жалостью к человеку, которого я осудил на смерть. Жаль его было за предсмертный ужас и те секунды страдания, пока будет проламываться его череп. Жаль было – не знаю, поймете ли вы это, – самого черепа. В стройно работающем живом организме есть особенная красота, и смерть, как и болезнь, как и старость, прежде всего – безобразие. Помню, как давно еще, когда я только что кончил университет, мне попалась в руки красивая молодая собака с стройными сильными членами, и мне стоило большого усилия над собой содрать с нее кожу, как требовал того опыт. И долго потом было неприятно вспоминать ее.
И если б Алексей не был таким болезненным, хилым, не знаю, быть может, я и не убил бы его. Но красивую его голову мне и до сих пор жаль. Передайте, пожалуйста, Татьяне Николаевне и это. Красивая, красивая была голова. Плохи у него были одни глаза – бледные, без огня и энергии.
Не убил бы я Алексея и в том случае, если бы критика была права и он действительно был бы таким крупным литературным дарованием. В жизни так много темного, и она так нуждается в освещающих ее путь талантах, что каждый из них нужно беречь, как драгоценнейший алмаз, как то, что оправдывает в человечестве существование тысяч негодяев и пошляков. Но Алексей не был талантом.
Здесь не место для критической статьи, но вчитайтесь в наиболее нашумевшие произведения покойного, и вы увидите, что они не были нужны для жизни. Они нужны были и интересны для сотни ожиревших людей, нуждающихся в развлечении, но не для жизни, но не для нас, пытающихся разгадать ее. В то время как писатель силою своей мысли и таланта должен творить новую жизнь, Савелов только описывал старую, не пытаясь даже разгадать ее сокровенный смысл. Единственный его рассказ, который мне нравится, в котором он близко подходит к области неразведанного, это рассказ «Тайна», но он – исключение. Самое, однако, дурное было то, что Алексей, видимо, начал исписываться и от счастливой жизни растерял последние зубы, которыми нужно впиваться в жизнь и грызть ее. Он сам нередко говорил мне о своих сомнениях, и я видел, что они основательны; я точно и подробно выпытал планы его будущих работ – и пусть утешатся горюющие поклонники: в них не было ничего нового и крупного. Из близких Алексею людей одна жена не видела упадка его таланта и никогда не увидела бы. И знаете почему? Она не всегда читала произведения своего мужа. Но, когда я попробовал как-то немного раскрыть ей глаза, она попросту сочла меня за негодяя. И, убедившись, что мы одни, сказала:
– Вы не можете ему простить другого.
– Чего?
– Того, что он мой муж и я люблю его. Если бы Алексей не чувствовал к вам такого пристрастия…
Она запнулась, и я предупредительно закончил ее мысль:
– Вы меня выгнали бы?
В ее глазах блеснул смех. И, невинно улыбаясь, она медленно проговорила:
– Нет. Оставила бы.
А я никогда ведь ни одним словом и жестом не показал, что продолжаю любить ее. Но тут подумал: тем лучше, если она догадывается.
Самый факт отнятия жизни у человека не останавливал меня. Я знал, что это преступление, строго караемое законом, но ведь почти все, что мы делаем, преступление, и только слепой не видит этого. Для тех, кто верит в бога, – преступление перед богом; для других – преступление перед людьми; для таких, как я, – преступление перед самим собой. Было бы бо?льшим преступлением, если бы, признав необходимым убить Алексея, я не выполнил этого решения. А то, что люди делят преступления на большие и маленькие и убийство называют большим преступлением, мне и всегда казалось обычной и жалкой людской ложью перед самим собой, старанием спрятаться от ответа за собственной спиной.
Не боялся я и самого себя, и это было важнее всего. Для убийцы, для преступника самое страшное не полиция, не суд, а он сам, его нервы, мощный протест всего тела, воспитанного в известных традициях. Вспомните Раскольникова, этого так жалко и так нелепо погибшего человека, и тьму ему подобных. И я очень долго, очень внимательно останавливался на этом вопросе, представляя себя, каким я буду после убийства. Не скажу, чтобы я пришел к полной уверенности в своем спокойствии, – подобной уверенности не могло создаться у мыслящего человека, предвидящего все случайности. Но, собрав тщательно все данные из своего прошлого, приняв в расчет силу моей воли, крепость неистощенной нервной системы, глубокое и искреннее презрение к ходячей морали, я мог питать относительную уверенность в благополучном исходе предприятия. Здесь не лишнее будет рассказать вам один интересный факт из моей жизни.
Когда-то, еще будучи студентом пятого семестра, я украл пятнадцать рублей из доверенных мне товарищеских денег, сказал, что кассир ошибся в счете, и все мне поверили. Это было больше чем простая кража, когда нуждающийся крадет у богатого: тут и нарушенное доверие, и отнятие денег именно у голодного, да еще товарища, да еще студента, и притом человеком со средствами (почему мне и поверили). Вам, вероятно, этот поступок кажется более противным, чем даже совершенное мною убийство друга, – не так ли? А мне, помню, было весело, что я сумел это сделать так хорошо и ловко, и я смотрел в глаза, прямо в глаза тем, кому смело и свободно лгал. Глаза у меня черные, красивые, прямые – и им верили. Но более всего я был горд тем, что совершенно не испытываю угрызений совести, что мне и нужно было самому себе доказать. И до настоящего дня я с особенным удовольствием вспоминаю menu ненужно-роскошного обеда, который я задал себе на украденные деньги и с аппетитом съел.
И разве теперь я испытываю угрызения совести? Раскаяние в содеянном? Ничуть.
Мне тяжело. Мне безумно тяжело, как ни одному в мире человеку, и волосы мои седеют, – но это другое. Другое. Страшное, неожиданное, невероятное в своей ужасной простоте.
Лист второй
Моя задача была такова. Нужно, чтобы я убил Алексея; нужно, чтобы Татьяна Николаевна видела, что это именно я убил ее мужа, и чтобы вместе с тем законная кара не коснулась меня. Не говоря уже о том, что наказание дало бы Татьяне Николаевне лишний повод посмеяться, я вообще совершенно не хотел каторги. Я очень люблю жизнь.
Я люблю, когда в тонком стакане играет золотистое вино; я люблю, усталый, протянуться в чистой постели; мне нравится весной дышать чистым воздухом, видеть красивый закат, читать интересные и умные книги. Я люблю себя, силу своих мышц, силу своей мысли, ясной и точной. Я люблю то, что я одинок и ни один любопытный взгляд не проник в глубину моей души с ее темными провалами и безднами, на краю которых кружится голова. Никогда я не понимал и не знал, что люди называют скукою жизни. Жизнь интересна, и я люблю ее за ту великую тайну, что в ней заключена, я люблю ее даже за ее жестокости, за свирепую мстительность и сатанински веселую игру людьми и событиями.
Я был единственный человек, которого я уважал, – как же мог я рисковать отправить этого человека в каторгу, где его лишат возможности вести необходимое ему разнообразное, полное и глубокое существование!.. Да и с вашей точки зрения я был прав, желая уклониться от каторги. Я очень удачно врачую; не нуждаясь в средствах, я лечу много бедняков. Я полезен. Наверное, полезнее, чем убитый Савелов.
И безнаказанности можно было добиться легко. Существуют тысячи способов незаметно убить человека, и мне, как врачу, было особенно легко прибегнуть к одному из них. И среди придуманных мною и отброшенных планов долгое время занимал меня такой: привить Алексею неизлечимую и отвратительную болезнь. Но неудобства этого плана были очевидны: длительные страдания для самого объекта, нечто некрасивое во всем этом, глубокое и как-то слишком уж… неумное; и наконец, и в болезни мужа Татьяна Николаевна нашла бы для себя радость. Особенно осложнялась моя задача обязательным требованием, чтобы Татьяна Николаевна знала руку, поразившую ее мужа. Но только трусы боятся препятствий; таких, как я, они привлекают.
Случайность, этот великий союзник умных, пришла мне на помощь. И я позволю себе обратить особенное внимание, гг. эксперты, на эту подробность: именно случайность, то есть нечто внешнее, не зависящее от меня, послужило основой и поводом для дальнейшего. В одной газете я нашел заметку про кассира, не то приказчика (вырезка из газеты, вероятно, осталась у меня дома или находится у следователя), который симулировал припадок падучей и якобы во время него потерял деньги, а в действительности, конечно, украл. Приказчик оказался трусом и сознался, указав даже место украденных денег, но самая мысль была недурна и осуществима. Симулировать сумасшествие, убить Алексея в состоянии якобы умоисступления и потом «выздороветь» – вот план, создавшийся у меня в одну минуту, но потребовавший много времени и труда, чтобы принять вполне определенную конкретную форму. С психиатрией я в то время был знаком поверхностно, как всякий врач-неспециалист, и около года ушло у меня на чтение всякого рода источников и размышление. К концу этого времени я убедился, что план мой вполне осуществим.
Первое, на что должны будут устремить внимание эксперты, это наследственные влияния, – и моя наследственность, к великой моей радости, оказалась вполне подходящей. Отец был алкоголиком; один дядя, его брат, кончил свою жизнь в больнице для умалишенных, и, наконец, единственная сестра моя, Анна, уже умершая, страдала эпилепсией. Правда, что со стороны матери у нас в роду все были здоровяки, но ведь достаточно одной капли яда безумия, чтобы отравить целый ряд поколений. По своему мощному здоровью я пошел в род матери, но кое-какие безобидные странности у меня существовали и могли сослужить мне службу. Моя относительная нелюдимость, которая есть просто признак здорового ума, предпочитающего проводить время наедине с самим собою и книгами, чем тратить его на праздную и пустую болтовню, могла сойти за болезненную мизантропию; холодность темперамента, не ищущего грубых чувственных наслаждений, – за выражение дегенерации. Самое упорство в достижении раз поставленных целей – а примеров ему можно найти немало в моей богатой жизни – на языке господ экспертов получило бы страшное название мономании, господства навязчивых идей.
Почва для симуляции была, таким образом, необыкновенно благоприятна: статика безумия была налицо, дело оставалось за динамикой. По ненамеренной подмалевке природы нужно было провести два-три удачных штриха, и картина сумасшествия готова. И я очень ясно представил себе, как это будет, не программными мыслями, а живыми образами: хоть я и не пишу плохих рассказов, но я далеко не лишен художественного чутья и фантазии.
Я увидел, что провести свою роль я буду в состоянии. Наклонность к притворству всегда лежала в моем характере и была одною из форм, в которых стремился я к внутренней свободе. Еще в гимназии я часто симулировал дружбу: ходил по коридору обнявшись, как это делают настоящие друзья, искусно подделывал дружески-откровенную речь и незаметно выпытывал. А когда разнеженный приятель выкладывал всего себя, я отбрасывал от себя его душонку и уходил прочь с гордым сознанием своей силы и внутренней свободы. Тем же двойственником оставался я и дома, среди родных; как в староверческом доме существует особая посуда для чужих, так и у меня было все особое для людей: особая улыбка, особые разговоры и откровенность. Я видел, что люди делают много глупого, вредного для себя и ненужного, и мне казалось, что если я стану говорить правду о себе, то я стану, как и все, и это глупое и ненужное овладеет мною.
Мне всегда нравилось быть почтительным с теми, кого я презирал, и целовать людей, которых я ненавидел, что делало меня свободным и господином над другими. Зато никогда не знал я лжи перед самим собою – этой наиболее распространенной и самой низкой формы порабощения человека жизнью. И чем больше я лгал людям, тем беспощадно-правдивее становился перед самим собой – достоинство, которым немногие могут похвалиться.
Леонид Николаевич Андреев
«Одиннадцатого декабря 1900 года доктор медицины Антон Игнатьевич Керженцев совершил убийство. Как вся совокупность данных, при которых совершилось преступление, так и некоторые предшествовавшие ему обстоятельства давали повод заподозрить Керженцева в ненормальности его умственных способностей.
Положенный на испытание в Елисаветинскую психиатрическую больницу, Керженцев был подвергнут строгому и внимательному надзору нескольких опытных психиатров, среди которых находился профессор Држембицкий, недавно умерший. Вот письменные объяснения, которые даны были по поводу происшедшего самим доктором Керженцевым через месяц после начала испытания; вместе с другими материалами, добытыми следствием, они легли в основу судебной экспертизы…»
Леонид Николаевич Андреев
Мысль
Одиннадцатого декабря 1900 года доктор медицины Антон Игнатьевич Керженцев совершил убийство. Как вся совокупность данных, при которых совершилось преступление, так и некоторые предшествовавшие ему обстоятельства давали повод заподозрить Керженцева в ненормальности его умственных способностей.
Положенный на испытание в Елисаветинскую психиатрическую больницу, Керженцев был подвергнут строгому и внимательному надзору нескольких опытных психиатров, среди которых находился профессор Држембицкий, недавно умерший. Вот письменные объяснения, которые даны были по поводу происшедшего самим доктором Керженцевым через месяц после начала испытания; вместе с другими материалами, добытыми следствием, они легли в основу судебной экспертизы.
Лист первый
До сих пор, гг. эксперты, я скрывал истину, но теперь обстоятельства вынуждают меня открыть ее. И, узнав ее, вы поймете, что дело вовсе не так просто, как это может показаться профанам: или горячечная рубашка, или кандалы. Тут есть третье – не кандалы и не рубашка, а, пожалуй, более страшное, чем то и другое, вместе взятое.
Убитый мною Алексей Константинович Савелов был моим товарищем по гимназии и университету, хотя по специальностям мы разошлись: я, как вам известно, врач, а он окончил курс по юридическому факультету. Нельзя сказать, чтобы я не любил покойного; он всегда был мне симпатичен, и более близких друзей, чем он, я никогда не имел. Но при всех симпатичных свойствах, он не принадлежал к тем людям, которые могут внушить мне уважение. Удивительная мягкость и податливость его натуры, странное непостоянство в области мысли и чувства, резкая крайность и необоснованность его постоянно менявшихся суждений заставляли меня смотреть на него, как на ребенка или женщину. Близкие ему люди, нередко страдавшие от его выходок и вместе с тем, по нелогичности человеческой натуры, очень его любившие, старались найти оправдание его недостаткам и своему чувству и называли его «художником». И действительно, выходило так, будто это ничтожное слово совсем оправдывает его и то, что для всякого нормального человека было бы дурным, делает безразличным и даже хорошим. Такова была сила придуманного слова, что даже я одно время поддался общему настроению и охотно извинял Алексею его мелкие недостатки. Мелкие – потому, что к большим, как ко всему крупному, он был неспособен. Об этом достаточно свидетельствуют и его литературные произведения, в которых все мелко и ничтожно, что бы ни говорила близорукая критика, падкая на открытие новых талантов. Красивы и ничтожны были его произведения, красив и ничтожен был он сам.
Когда Алексей умер, ему было тридцать один год, – на один с немногим год моложе меня.
Алексей был женат. Если вы видели его жену, теперь, после его смерти, когда на ней траур, вы не можете составить представления о том, какой красивой была она когда-то: так сильно, сильно она подурнела. Щеки серые, и кожа на лице такая дряблая, старая-старая, как поношенная перчатка. И морщинки. Это сейчас морщинки, а еще год пройдет – и это будут глубокие борозды и канавы: ведь она так его любила! И глаза ее теперь уже не сверкают и не смеются, а прежде они всегда смеялись, даже в то время, когда им нужно было плакать. Всего одну минуту видел я ее, случайно столкнувшись с нею у следователя, и был поражен переменой. Даже гневно взглянуть на меня она не могла. Такая жалкая!
Только трое – Алексей, я и Татьяна Николаевна – знали, что пять лет тому назад, за два года до женитьбы Алексея, я делал Татьяне Николаевне предложение и оно было отвергнуто. Конечно, это только предполагается, что трое, а, наверное, у Татьяны Николаевны есть еще десяток подруг и друзей, подробно осведомленных о том, как однажды доктор Керженцев возмечтал о браке и получил унизительный отказ. Не знаю, помнит ли она, что она тогда засмеялась; вероятно, не помнит – ей так часто приходилось смеяться. И тогда напомните ей: пятого сентября она засмеялась. Если она будет отказываться – а она будет отказываться, – то напомните, как это было. Я, этот сильный человек, который никогда не плакал, который никогда ничего не боялся, – я стоял перед нею и дрожал. Я дрожал и видел, как кусает она губы, и уже протянул руку, чтобы обнять ее, когда она подняла глаза, и в них был смех. Рука моя осталась в воздухе, она засмеялась и долго смеялась. Столько, сколько ей хотелось. Но потом она все-таки извинилась.
– Извините, пожалуйста, – сказала она, а глаза ее смеялись.
И я тоже улыбнулся, и если бы я мог простить ей ее смех, то никогда не прощу этой своей улыбки. Это было пятого сентября, в шесть часов вечера, по петербургскому времени. По петербургскому, добавляю я, потому, что мы находились тогда на вокзальной платформе, и я сейчас ясно вижу большой белый циферблат и такое положение черных стрелок: вверх и вниз. Алексей Константинович был убит также ровно в шесть часов. Совпадение странное, но могущее открыть многое догадливому человеку.
Одним из оснований к тому, чтобы посадить меня сюда, было отсутствие мотива к преступлению. Теперь вы видите, что мотив существовал? Конечно, это не было ревностью. Последняя предполагает в человеке пылкий темперамент и слабость мыслительных способностей, то есть нечто прямо противоположное мне, человеку холодному и рассудочному. Месть? Да, скорее месть, если уж так необходимо старое слово для определения нового и незнакомого чувства. Дело в том, что Татьяна Николаевна еще раз заставила меня ошибиться, и это всегда злило меня. Хорошо зная Алексея, я был уверен, что в браке с ним Татьяна Николаевна будет очень несчастна и пожалеет обо мне, и поэтому я так настаивал, чтобы Алексей, тогда еще просто влюбленный, женился на ней. Еще только за месяц до своей трагической смерти он говорил мне:
– Это тебе я обязан своим счастьем. Правда, Таня?
А она смотрела на меня, говорила: «правда», и глаза ее улыбались. Я тоже улыбался. И потом мы все рассмеялись, когда он обнял Татьяну Николаевну – при мне они не стеснялись – и добавил:
– Да, брат, дал ты маху!
Эта неуместная и нетактичная шутка сократила его жизнь на целую неделю: первоначально я решил убить его восемнадцатого декабря.
Да, брак их оказался счастливым, и счастлива была именно она. Он любил Татьяну Николаевну не сильно, да и вообще он не был способен к глубокой любви. Было у него свое любимое дело – литература, выводившее его интересы за пределы спальни. А она любила только его и только им одним жила. Потом, он был нездоровый человек: частые головные боли, бессонница, и это, конечно, мучило его. А ей даже ухаживать за ним, больным, и выполнять его капризы было счастьем. Ведь когда женщина полюбит, она становится невменяемой.
И вот изо дня в день я видел ее улыбающееся лицо, ее счастливое лицо, молодое, красивое, беззаботное. И думал: это устроил я. Хотел дать ей беспутного мужа и лишить ее себя, а вместо того и мужа дал такого, которого она любит, и сам остался при ней. Вы поймете эту странность: она умнее своего мужа и беседовать любила со мной, а, побеседовав, – спать шла с ним и была счастлива.
Я не помню, когда впервые пришла мне мысль убить Алексея. Как-то незаметно она явилась, но уже с первой минуты стала такой старой, как будто я с нею родился. Я знаю, что мне хотелось сделать Татьяну Николаевну несчастной и что сперва я придумывал много других планов, менее гибельных для Алексея, – я всегда был врагом ненужной жестокости. Пользуясь своим влиянием на Алексея, я думал влюбить его в другую женщину или сделать его пьяницей (у него была к этому наклонность), но все эти способы не годились. Дело в том, что Татьяна Николаевна ухитрилась бы остаться счастливой, даже отдавая его другой женщине, слушая его пьяную болтовню или принимая его пьяные ласки. Ей нужно было, чтобы этот человек жил, а она так или иначе служила ему. Бывают такие рабские натуры. И, как рабы, они не могут понять и оценить чужой силы, не силы их господина. Были на свете женщины умные, хорошие и талантливые, но справедливой женщины мир еще не видал и не увидит.
Признаюсь искренно, не для того чтобы добиться ненужного мне снисхождения, а чтобы показать, каким правильным, нормальным путем создавалось мое решение, что мне довольно долго пришлось бороться с жалостью к человеку, которого я осудил на смерть. Жаль его было за предсмертный ужас и те секунды страдания, пока будет проламываться его череп. Жаль было – не знаю, поймете ли вы это, – самого черепа. В стройно работающем живом организме есть особенная красота, и смерть, как и болезнь, как и старость, прежде всего – безобразие. Помню, как давно еще, когда я только что кончил университет, мне попалась в руки красивая молодая собака с стройными сильными членами, и мне стоило большого усилия над собой содрать с нее кожу, как требовал того опыт. И долго потом было неприятно вспоминать ее.
И если б Алексей не был таким болезненным, хилым, не знаю, быть может, я и не убил бы его. Но красивую его голову мне и до сих пор жаль. Передайте, пожалуйста, Татьяне Николаевне и это. Красивая, красивая была голова. Плохи у него были одни глаза – бледные, без огня и энергии.
Не убил бы я Алексея и в том случае, если бы критика была права и он действительно был бы таким крупным литературным дарованием. В жизни так много темного, и она так нуждается в освещающих ее путь талантах, что каждый из них нужно беречь, как драгоценнейший алмаз, как то, что оправдывает в человечестве существование тысяч негодяев и пошляков. Но Алексей не был талантом.
Здесь не место для критической статьи, но вчитайтесь в наиболее нашумевшие произведения покойного, и вы увидите, что они не были нужны для жизни. Они нужны были и интересны для сотни ожиревших людей, нуждающихся в развлечении, но не для жизни, но не для нас, пытающихся разгадать ее. В то время как писатель силою своей мысли и таланта должен творить новую жизнь, Савелов только описывал старую, не пытаясь даже разгадать ее сокровенный смысл. Единственный его рассказ, который мне нравится, в котором он близко подходит к области неразведанного, это рассказ «Тайна», но он – исключение. Самое, однако, дурное было то, что Алексей, видимо, начал исписываться и от счастливой жизни растерял последние зубы, которыми нужно впиваться в жизнь и грызть ее. Он сам нередко говорил мне о своих сомнениях, и я видел, что они основательны; я точно и подробно выпытал планы его будущих работ – и пусть утешатся горюющие поклонники: в них не было ничего нового и крупного. Из близких Алексею людей одна жена не видела упадка его таланта и никогда не увидела бы. И знаете почему? Она не всегда читала произведения своего мужа. Но, когда я попробовал как-то немного раскрыть ей глаза, она попросту сочла меня за негодяя. И, убедившись, что мы одни, сказала:
– Вы не можете ему простить другого.
– Чего?
– Того, что он мой муж и я люблю его. Если бы Алексей не чувствовал к вам такого пристрастия…
Она запнулась, и я предупредительно закончил ее мысль:
– Вы меня выгнали бы?
В ее глазах блеснул смех. И, невинно улыбаясь, она медленно проговорила:
– Нет. Оставила бы.
А я никогда ведь ни одним словом и жестом не показал, что продолжаю любить ее. Но тут подумал: тем лучше, если она догадывается.
Самый факт отнятия жизни у человека не останавливал меня. Я знал, что это преступление, строго караемое законом, но ведь почти все, что мы делаем, преступление, и только слепой не видит этого. Для тех, кто верит в бога, – преступление перед богом; для других – преступление перед людьми; для таких, как я, – преступление перед самим собой. Было бы бо?льшим преступлением, если бы, признав необходимым убить Алексея, я не выполнил этого решения. А то, что люди делят преступления на большие и маленькие и убийство называют большим преступлением, мне и всегда казалось обычной и жалкой людской ложью перед самим собой, старанием спрятаться от ответа за собственной спиной.
Не боялся я и самого себя, и это было важнее всего. Для убийцы, для преступника самое страшное не полиция, не суд, а он сам, его нервы, мощный протест всего тела, воспитанного в известных традициях. Вспомните Раскольникова, этого так жалко и так нелепо погибшего человека, и тьму ему подобных. И я очень долго, очень внимательно останавливался на этом вопросе, представляя себя, каким я буду после убийства. Не скажу, чтобы я пришел к полной уверенности в своем спокойствии, – подобной уверенности не могло создаться у мыслящего человека, предвидящего все случайности. Но, собрав тщательно все данные из своего прошлого, приняв в расчет силу моей воли, крепость неистощенной нервной системы, глубокое и искреннее презрение к ходячей морали, я мог питать относительную уверенность в благополучном исходе предприятия. Здесь не лишнее будет рассказать вам один интересный факт из моей жизни.
Когда-то, еще будучи студентом пятого семестра, я украл пятнадцать рублей из доверенных мне товарищеских денег, сказал, что кассир ошибся в счете, и все мне поверили. Это было больше чем простая кража, когда нуждающийся крадет у богатого: тут и нарушенное доверие, и отнятие денег именно у голодного, да еще товарища, да еще студента, и притом человеком со средствами (почему мне и поверили). Вам, вероятно, этот поступок кажется более противным, чем даже совершенное мною убийство друга, – не так ли? А мне, помню, было весело, что я сумел это сделать так хорошо и ловко, и я смотрел в глаза, прямо в глаза тем, кому смело и свободно лгал. Глаза у меня черные, красивые, прямые – и им верили. Но более всего я был горд тем, что совершенно не испытываю угрызений совести, что мне и нужно было самому себе доказать. И до настоящего дня я с особенным удовольствием вспоминаю menu ненужно-роскошного обеда, который я задал себе на украденные деньги и с аппетитом съел.
И разве теперь я испытываю угрызения совести? Раскаяние в содеянном? Ничуть.
Мне тяжело. Мне безумно тяжело, как ни одному в мире человеку, и волосы мои седеют, – но это другое. Другое. Страшное, неожиданное, невероятное в своей ужасной простоте.
Лист второй
Моя задача была такова. Нужно, чтобы я убил Алексея; нужно, чтобы Татьяна Николаевна видела, что это именно я убил ее мужа, и чтобы вместе с тем законная кара не коснулась меня. Не говоря уже о том, что наказание дало бы Татьяне Николаевне лишний повод посмеяться, я вообще совершенно не хотел каторги. Я очень люблю жизнь.
Я люблю, когда в тонком стакане играет золотистое вино; я люблю, усталый, протянуться в чистой постели; мне нравится весной дышать чистым воздухом, видеть красивый закат, читать интересные и умные книги. Я люблю себя, силу своих мышц, силу своей мысли, ясной и точной. Я люблю то, что я одинок и ни один любопытный взгляд не проник в глубину моей души с ее темными провалами и безднами, на краю которых кружится голова. Никогда я не понимал и не знал, что люди называют скукою жизни. Жизнь интересна, и я люблю ее за ту великую тайну, что в ней заключена, я люблю ее даже за ее жестокости, за свирепую мстительность и сатанински веселую игру людьми и событиями.
Я был единственный человек, которого я уважал, – как же мог я рисковать отправить этого человека в каторгу, где его лишат возможности вести необходимое ему разнообразное, полное и глубокое существование!.. Да и с вашей точки зрения я был прав, желая уклониться от каторги. Я очень удачно врачую; не нуждаясь в средствах, я лечу много бедняков. Я полезен. Наверное, полезнее, чем убитый Савелов.
И безнаказанности можно было добиться легко. Существуют тысячи способов незаметно убить человека, и мне, как врачу, было особенно легко прибегнуть к одному из них. И среди придуманных мною и отброшенных планов долгое время занимал меня такой: привить Алексею неизлечимую и отвратительную болезнь. Но неудобства этого плана были очевидны: длительные страдания для самого объекта, нечто некрасивое во всем этом, глубокое и как-то слишком уж… неумное; и наконец, и в болезни мужа Татьяна Николаевна нашла бы для себя радость. Особенно осложнялась моя задача обязательным требованием, чтобы Татьяна Николаевна знала руку, поразившую ее мужа. Но только трусы боятся препятствий; таких, как я, они привлекают.
Случайность, этот великий союзник умных, пришла мне на помощь. И я позволю себе обратить особенное внимание, гг. эксперты, на эту подробность: именно случайность, то есть нечто внешнее, не зависящее от меня, послужило основой и поводом для дальнейшего. В одной газете я нашел заметку про кассира, не то приказчика (вырезка из газеты, вероятно, осталась у меня дома или находится у следователя), который симулировал припадок падучей и якобы во время него потерял деньги, а в действительности, конечно, украл. Приказчик оказался трусом и сознался, указав даже место украденных денег, но самая мысль была недурна и осуществима. Симулировать сумасшествие, убить Алексея в состоянии якобы умоисступления и потом «выздороветь» – вот план, создавшийся у меня в одну минуту, но потребовавший много времени и труда, чтобы принять вполне определенную конкретную форму. С психиатрией я в то время был знаком поверхностно, как всякий врач-неспециалист, и около года ушло у меня на чтение всякого рода источников и размышление. К концу этого времени я убедился, что план мой вполне осуществим.
Первое, на что должны будут устремить внимание эксперты, это наследственные влияния, – и моя наследственность, к великой моей радости, оказалась вполне подходящей. Отец был алкоголиком; один дядя, его брат, кончил свою жизнь в больнице для умалишенных, и, наконец, единственная сестра моя, Анна, уже умершая, страдала эпилепсией. Правда, что со стороны матери у нас в роду все были здоровяки, но ведь достаточно одной капли яда безумия, чтобы отравить целый ряд поколений. По своему мощному здоровью я пошел в род матери, но кое-какие безобидные странности у меня существовали и могли сослужить мне службу. Моя относительная нелюдимость, которая есть просто признак здорового ума, предпочитающего проводить время наедине с самим собою и книгами, чем тратить его на праздную и пустую болтовню, могла сойти за болезненную мизантропию; холодность темперамента, не ищущего грубых чувственных наслаждений, – за выражение дегенерации. Самое упорство в достижении раз поставленных целей – а примеров ему можно найти немало в моей богатой жизни – на языке господ экспертов получило бы страшное название мономании, господства навязчивых идей.
Почва для симуляции была, таким образом, необыкновенно благоприятна: статика безумия была налицо, дело оставалось за динамикой. По ненамеренной подмалевке природы нужно было провести два-три удачных штриха, и картина сумасшествия готова. И я очень ясно представил себе, как это будет, не программными мыслями, а живыми образами: хоть я и не пишу плохих рассказов, но я далеко не лишен художественного чутья и фантазии.
Я увидел, что провести свою роль я буду в состоянии. Наклонность к притворству всегда лежала в моем характере и была одною из форм, в которых стремился я к внутренней свободе. Еще в гимназии я часто симулировал дружбу: ходил по коридору обнявшись, как это делают настоящие друзья, искусно подделывал дружески-откровенную речь и незаметно выпытывал. А когда разнеженный приятель выкладывал всего себя, я отбрасывал от себя его душонку и уходил прочь с гордым сознанием своей силы и внутренней свободы. Тем же двойственником оставался я и дома, среди родных; как в староверческом доме существует особая посуда для чужих, так и у меня было все особое для людей: особая улыбка, особые разговоры и откровенность. Я видел, что люди делают много глупого, вредного для себя и ненужного, и мне казалось, что если я стану говорить правду о себе, то я стану, как и все, и это глупое и ненужное овладеет мною.
Мне всегда нравилось быть почтительным с теми, кого я презирал, и целовать людей, которых я ненавидел, что делало меня свободным и господином над другими. Зато никогда не знал я лжи перед самим собою – этой наиболее распространенной и самой низкой формы порабощения человека жизнью. И чем больше я лгал людям, тем беспощадно-правдивее становился перед самим собой – достоинство, которым немногие могут похвалиться.