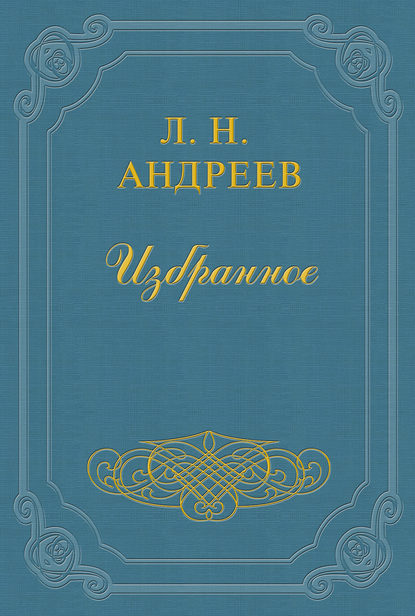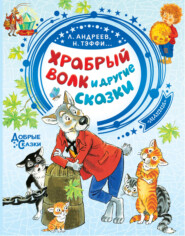По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
День гнева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
День гнева
Леонид Николаевич Андреев
«…Эту свободную песню о грозных днях справедливости и кары сложил я, как умел, – я – Джеронимо Пасканья, сицилийский бандит, убийца, грабитель, преступник.
Сложив, как умел, я хотел пропеть ее громко, как поются хорошие песни, но мне не позволил тюремщик. У тюремщика заросшее волосами ухо, тесный и узкий проход: для слов неправдивых, извилистых, умеющих ползать на брюхе, как низкие твари. Мои же слова ходят прямо, у них здоровая грудь и широкие спины – ах, как больно рвали они нежное ухо тюремщика, заросшее волосами…»
Леонид Николаевич Андреев
День гнева
Песнь первая
1
…Эту свободную песню о грозных днях справедливости и кары сложил я, как умел, – я – Джеронимо Пасканья, сицилийский бандит, убийца, грабитель, преступник.
Сложив, как умел, я хотел пропеть ее громко, как поются хорошие песни, но мне не позволил тюремщик. У тюремщика заросшее волосами ухо, тесный и узкий проход: для слов неправдивых, извилистых, умеющих ползать на брюхе, как низкие твари. Мои же слова ходят прямо, у них здоровая грудь и широкие спины – ах, как больно рвали они нежное ухо тюремщика, заросшее волосами.
– Если ухо заперто, то поищи другого входа, Джеронимо, – сказал я себе дружески; и думал, и искал, и придумал, и нашел, потому что вовсе не глуп Джеронимо. И вот что я нашел: я нашел камень. И вот что я сделал: на камне я вырубил песню, его холодное сердце разжег я ударами гнева. И когда камень ожил и взглянул на меня горячими глазами гнева, я осторожно отнес его и положил на краю тюремной ограды.
Видишь ли, на что я рассчитываю? Я – умный, рассчитываю, что скоро опять всколыхнет землю дружеский удар и снова разрушит ваш город; тогда повалятся ограды, мой камень упадет вниз и раздробит голову тюремщику. Раздробив же, – на мягком, как воск, серо-кровавом мозгу выдавит мою свободную песню, втиснет ее, как королевскую печать, как новую заповедь гнева… с тем и пойдет в могилу тюремщик.
Эй, тюремщик, не запирай уха! – Я пройду сквозь твой череп.
2
Если я буду жив тогда, я буду смеяться от радости; если я буду мертв, мои кости запляшут в непрочной могиле. Вот-то будет веселая тарантелла!
Но разве ты можешь поклясться, что этого никогда не будет? – Еще раньше, тем же ударом выбросит на землю меня: мой гнилой гроб, мое скверное мясо, всего меня – мертвого, схороненного навеки, придавленного крепко. Ведь было же так в эти великие дни: расселась земля на кладбище, и выползли тихие гробы. Тихие гробы, незваные гости на пире.
3
Вот имена товарищей, с которыми я подружился в эти короткие часы: Паскале – профессор, Джузеппе, Пинчио, Альба. Их расстреляли солдаты. Был еще один молодой, услужливый и такой красивый, что жаль было смотреть; я его почитал за сына, а он уважал меня, как отца, но имени я его не знаю: не успел спросить, а может быть – позабыл. Его также расстреляли солдаты. Кажется, был еще один или два, также друзья… не помню. Когда расстреливали молодого, я не убежал далеко, я спрятался тут же, за разрушенной оградой, возле раздавленного кактуса. И все видел и слышал. А когда я уходил, раздавленный кактус впился в меня мертвой колючкой – ведь он же приставлен к ограде, чтобы не пускать воров. Какие хорошие слуги у богатых!
4
Их расстреляли солдаты. Запомни те имена, что я тебе назвал, а про остальных, у кого нет имени, просто подумай: их расстреляли. Но не вздумай крестить свой лоб, и еще того хуже: не закажи мессы – они этого не любили. Почти расстрелянных молчанием правды, а если захочется солгать, то солги как-нибудь веселее, но только не мессой: они этого не любили.
5
Этот первый удар, разрушивший тюрьму и город, имел голос необыкновенной силы и совсем особенной, нечеловеческой важности: он ревел снизу, из-под земли, был необъятен и глухо грозен; и все качалось и падало.
И еще не поняв, в чем дело, я уже знал, что все кончилось, может быть, кончилась вся земля. Но я не особенно испугался – чего же мне особенно пугаться, если даже кончилась вся земля? Он долго ревел, этот подземный, глухой трубач.
И вдруг вежливо раскрылась дверь.
6
Я сидел в тюрьме долго и безнадежно. Я уже пробовал бежать, но не мог. Да и ты не убежал бы, не думай: так славно была построена проклятая тюрьма!
И я привык к железу решеток и к камню стен, и они казались мне вечными, а тот, кто их построил, – самым сильным на свете. Даже не хотелось думать, справедлив ли он или нет, – так был он силен и вечен. Даже во сне я не видал свободы – не верил, не ждал, не чувствовал. И боялся звать. Свободу опасно звать: пока молчишь, еще можно жить; но если хоть раз, хоть самым тихим голосом позвал свободу, то нужно либо добыть ее, либо умереть. Это верно, – так говорит и профессор Паскале.
И вот так безнадежно сидел я в тюрьме, когда вдруг открылась дверь. Вежливо и сама; во всяком случае, не человеческая рука ее открыла.
7
В развалинах лежала улица, в ужасном беспорядке. Весь материал, из которого строят, вернулся назад и лежал, как вначале. Дома рассыпались – лопались – качались, как пьяные; садились на землю, на собственные раздавленные ноги. Иные мрачно бросались вниз, головой на мостовую – трах! Открылись ящики, в которых живут люди, этакие славные, маленькие коробочки, оклеенные бумагой. Картинки еще висели на стенах, а людей уже не было; они вывалились, их выбросило, они лежали под камнями. И судорожно дергалась земля – дело в том, что вновь затрубил подземный трубач, глухой черт, которому все кажется мало от глухоты. Милый, старательный черт большого роста.
Ведь я же был свободен и не понимал этого: все еще не решался отойти от проклятой тюрьмы. Стоял и глупо глядел на развалины. И товарищи собрались тут же и тоже не уходили, толпились растерянно, как дети, около загулявшей, пьяной, упавшей на землю матери. Хороша мать! Вдруг Паскале профессор сказал:
– Посмотрите.
Одну стену, которую мы считали вечною, разорвало пополам; и пополам разорвало окно и железную решетку. Скрутило железо, разорвало его, как гнилую тряпку, – железо, подумай! В моих руках оно даже не звенело, притворялось вечным, самым сильным, а теперь не стоило и плевка – железо, подумай!
Тут я и все остальные поняли, что мы свободны.
8
Свободны!
9
Тебе труднее согнуть соломинку, чем ему три железные рельса, положенные один на другой. Три или сто, ему все равно. Тебе труднее поднять и поднести к губам кружку с водою, нежели ему поднять целое море воды, взболтать его, поднять осадки и выплеснуть на землю; холодное заставить кипеть. Тебе труднее разгрызть кусок сахару, чем ему целую гору. Тебе труднее перервать тоненькую гнилую нитку, нежели ему три железных каната, сплетенных в косу. Ты запотеешь и станешь красный, прежде чем тебе удастся хоть немного расковырять палкой муравейник, – он одним толчком разрушил твой город. Он поднял железный пароход, как ты рукою маленький камень, и бросил его на берег, – ты видал такую силу?
10
Все, что было раскрыто, он закрыл; дверь твоего дома вросла в стены твоего дома, и вместе они удушили тебя: твои стены, твоя дверь, твой потолок. И он же раскрыл двери, тюрьмы, которые ты запер так тщательно. Ты, богатый, которого я ненавижу!
11
Если я соберу со всего света все добрые слова, какие есть у людей, нежные речи, звонкие песни и брошу их стаей в радостный воздух; Если я соберу все улыбки детей, смех женщин, еще никем не обиженных, ласки седых матерей, крепкое пожатие друга, – и сделаю нетленный венок на чью-то прекрасную голову;
Если я обойду всю землю и соберу все цветы, какие только есть на земле: в лесах, на полях и лугах, в садах богачей, в глубинах вод, на синем дне океана; если я соберу все драгоценные сверкающие камни, в глухих ущельях их добуду, во тьме глубоких рудников, выдерну их из королевских корон и ушей богачих – и все это, и камни и цветы, сложу в сверкающую гору;
Если я соберу все огни, какие горят во вселенной, все светы, все лучи, все вспышки, взрывы и тихие сияния и заревом единого великого пожара озарю дрогнувшие миры; —
То и тогда еще не назову, не увенчаю, не восхвалю тебя – свобода!
12
Свобода!
13
Над моей головой было небо, а небо всегда свободно, открыто ветру и движению туч; под моими ногами была дорога, а дорога всегда свободна – она сделана для того, чтобы по ней ходили, передвигали ногами, подвигались вперед и назад, оставляли одно и находили другое. Дорога, видишь, возлюбленная того, кто свободен: ее нужно поцеловать при встрече и оплакать при прощании.
И когда мои ноги задвигались по дороге, – я подумал, что это совершилось чудо. Смотрю: и Паскале двигает ногами – профессор! Смотрю: и тот молоденький перебирает молодыми ногами, торопится, путается и вдруг бежит.
– Куда?
Леонид Николаевич Андреев
«…Эту свободную песню о грозных днях справедливости и кары сложил я, как умел, – я – Джеронимо Пасканья, сицилийский бандит, убийца, грабитель, преступник.
Сложив, как умел, я хотел пропеть ее громко, как поются хорошие песни, но мне не позволил тюремщик. У тюремщика заросшее волосами ухо, тесный и узкий проход: для слов неправдивых, извилистых, умеющих ползать на брюхе, как низкие твари. Мои же слова ходят прямо, у них здоровая грудь и широкие спины – ах, как больно рвали они нежное ухо тюремщика, заросшее волосами…»
Леонид Николаевич Андреев
День гнева
Песнь первая
1
…Эту свободную песню о грозных днях справедливости и кары сложил я, как умел, – я – Джеронимо Пасканья, сицилийский бандит, убийца, грабитель, преступник.
Сложив, как умел, я хотел пропеть ее громко, как поются хорошие песни, но мне не позволил тюремщик. У тюремщика заросшее волосами ухо, тесный и узкий проход: для слов неправдивых, извилистых, умеющих ползать на брюхе, как низкие твари. Мои же слова ходят прямо, у них здоровая грудь и широкие спины – ах, как больно рвали они нежное ухо тюремщика, заросшее волосами.
– Если ухо заперто, то поищи другого входа, Джеронимо, – сказал я себе дружески; и думал, и искал, и придумал, и нашел, потому что вовсе не глуп Джеронимо. И вот что я нашел: я нашел камень. И вот что я сделал: на камне я вырубил песню, его холодное сердце разжег я ударами гнева. И когда камень ожил и взглянул на меня горячими глазами гнева, я осторожно отнес его и положил на краю тюремной ограды.
Видишь ли, на что я рассчитываю? Я – умный, рассчитываю, что скоро опять всколыхнет землю дружеский удар и снова разрушит ваш город; тогда повалятся ограды, мой камень упадет вниз и раздробит голову тюремщику. Раздробив же, – на мягком, как воск, серо-кровавом мозгу выдавит мою свободную песню, втиснет ее, как королевскую печать, как новую заповедь гнева… с тем и пойдет в могилу тюремщик.
Эй, тюремщик, не запирай уха! – Я пройду сквозь твой череп.
2
Если я буду жив тогда, я буду смеяться от радости; если я буду мертв, мои кости запляшут в непрочной могиле. Вот-то будет веселая тарантелла!
Но разве ты можешь поклясться, что этого никогда не будет? – Еще раньше, тем же ударом выбросит на землю меня: мой гнилой гроб, мое скверное мясо, всего меня – мертвого, схороненного навеки, придавленного крепко. Ведь было же так в эти великие дни: расселась земля на кладбище, и выползли тихие гробы. Тихие гробы, незваные гости на пире.
3
Вот имена товарищей, с которыми я подружился в эти короткие часы: Паскале – профессор, Джузеппе, Пинчио, Альба. Их расстреляли солдаты. Был еще один молодой, услужливый и такой красивый, что жаль было смотреть; я его почитал за сына, а он уважал меня, как отца, но имени я его не знаю: не успел спросить, а может быть – позабыл. Его также расстреляли солдаты. Кажется, был еще один или два, также друзья… не помню. Когда расстреливали молодого, я не убежал далеко, я спрятался тут же, за разрушенной оградой, возле раздавленного кактуса. И все видел и слышал. А когда я уходил, раздавленный кактус впился в меня мертвой колючкой – ведь он же приставлен к ограде, чтобы не пускать воров. Какие хорошие слуги у богатых!
4
Их расстреляли солдаты. Запомни те имена, что я тебе назвал, а про остальных, у кого нет имени, просто подумай: их расстреляли. Но не вздумай крестить свой лоб, и еще того хуже: не закажи мессы – они этого не любили. Почти расстрелянных молчанием правды, а если захочется солгать, то солги как-нибудь веселее, но только не мессой: они этого не любили.
5
Этот первый удар, разрушивший тюрьму и город, имел голос необыкновенной силы и совсем особенной, нечеловеческой важности: он ревел снизу, из-под земли, был необъятен и глухо грозен; и все качалось и падало.
И еще не поняв, в чем дело, я уже знал, что все кончилось, может быть, кончилась вся земля. Но я не особенно испугался – чего же мне особенно пугаться, если даже кончилась вся земля? Он долго ревел, этот подземный, глухой трубач.
И вдруг вежливо раскрылась дверь.
6
Я сидел в тюрьме долго и безнадежно. Я уже пробовал бежать, но не мог. Да и ты не убежал бы, не думай: так славно была построена проклятая тюрьма!
И я привык к железу решеток и к камню стен, и они казались мне вечными, а тот, кто их построил, – самым сильным на свете. Даже не хотелось думать, справедлив ли он или нет, – так был он силен и вечен. Даже во сне я не видал свободы – не верил, не ждал, не чувствовал. И боялся звать. Свободу опасно звать: пока молчишь, еще можно жить; но если хоть раз, хоть самым тихим голосом позвал свободу, то нужно либо добыть ее, либо умереть. Это верно, – так говорит и профессор Паскале.
И вот так безнадежно сидел я в тюрьме, когда вдруг открылась дверь. Вежливо и сама; во всяком случае, не человеческая рука ее открыла.
7
В развалинах лежала улица, в ужасном беспорядке. Весь материал, из которого строят, вернулся назад и лежал, как вначале. Дома рассыпались – лопались – качались, как пьяные; садились на землю, на собственные раздавленные ноги. Иные мрачно бросались вниз, головой на мостовую – трах! Открылись ящики, в которых живут люди, этакие славные, маленькие коробочки, оклеенные бумагой. Картинки еще висели на стенах, а людей уже не было; они вывалились, их выбросило, они лежали под камнями. И судорожно дергалась земля – дело в том, что вновь затрубил подземный трубач, глухой черт, которому все кажется мало от глухоты. Милый, старательный черт большого роста.
Ведь я же был свободен и не понимал этого: все еще не решался отойти от проклятой тюрьмы. Стоял и глупо глядел на развалины. И товарищи собрались тут же и тоже не уходили, толпились растерянно, как дети, около загулявшей, пьяной, упавшей на землю матери. Хороша мать! Вдруг Паскале профессор сказал:
– Посмотрите.
Одну стену, которую мы считали вечною, разорвало пополам; и пополам разорвало окно и железную решетку. Скрутило железо, разорвало его, как гнилую тряпку, – железо, подумай! В моих руках оно даже не звенело, притворялось вечным, самым сильным, а теперь не стоило и плевка – железо, подумай!
Тут я и все остальные поняли, что мы свободны.
8
Свободны!
9
Тебе труднее согнуть соломинку, чем ему три железные рельса, положенные один на другой. Три или сто, ему все равно. Тебе труднее поднять и поднести к губам кружку с водою, нежели ему поднять целое море воды, взболтать его, поднять осадки и выплеснуть на землю; холодное заставить кипеть. Тебе труднее разгрызть кусок сахару, чем ему целую гору. Тебе труднее перервать тоненькую гнилую нитку, нежели ему три железных каната, сплетенных в косу. Ты запотеешь и станешь красный, прежде чем тебе удастся хоть немного расковырять палкой муравейник, – он одним толчком разрушил твой город. Он поднял железный пароход, как ты рукою маленький камень, и бросил его на берег, – ты видал такую силу?
10
Все, что было раскрыто, он закрыл; дверь твоего дома вросла в стены твоего дома, и вместе они удушили тебя: твои стены, твоя дверь, твой потолок. И он же раскрыл двери, тюрьмы, которые ты запер так тщательно. Ты, богатый, которого я ненавижу!
11
Если я соберу со всего света все добрые слова, какие есть у людей, нежные речи, звонкие песни и брошу их стаей в радостный воздух; Если я соберу все улыбки детей, смех женщин, еще никем не обиженных, ласки седых матерей, крепкое пожатие друга, – и сделаю нетленный венок на чью-то прекрасную голову;
Если я обойду всю землю и соберу все цветы, какие только есть на земле: в лесах, на полях и лугах, в садах богачей, в глубинах вод, на синем дне океана; если я соберу все драгоценные сверкающие камни, в глухих ущельях их добуду, во тьме глубоких рудников, выдерну их из королевских корон и ушей богачих – и все это, и камни и цветы, сложу в сверкающую гору;
Если я соберу все огни, какие горят во вселенной, все светы, все лучи, все вспышки, взрывы и тихие сияния и заревом единого великого пожара озарю дрогнувшие миры; —
То и тогда еще не назову, не увенчаю, не восхвалю тебя – свобода!
12
Свобода!
13
Над моей головой было небо, а небо всегда свободно, открыто ветру и движению туч; под моими ногами была дорога, а дорога всегда свободна – она сделана для того, чтобы по ней ходили, передвигали ногами, подвигались вперед и назад, оставляли одно и находили другое. Дорога, видишь, возлюбленная того, кто свободен: ее нужно поцеловать при встрече и оплакать при прощании.
И когда мои ноги задвигались по дороге, – я подумал, что это совершилось чудо. Смотрю: и Паскале двигает ногами – профессор! Смотрю: и тот молоденький перебирает молодыми ногами, торопится, путается и вдруг бежит.
– Куда?